Красовитов Юрий Иванович
(19.03.23-28.12.92гг)
Воспоминания
Первое утро.
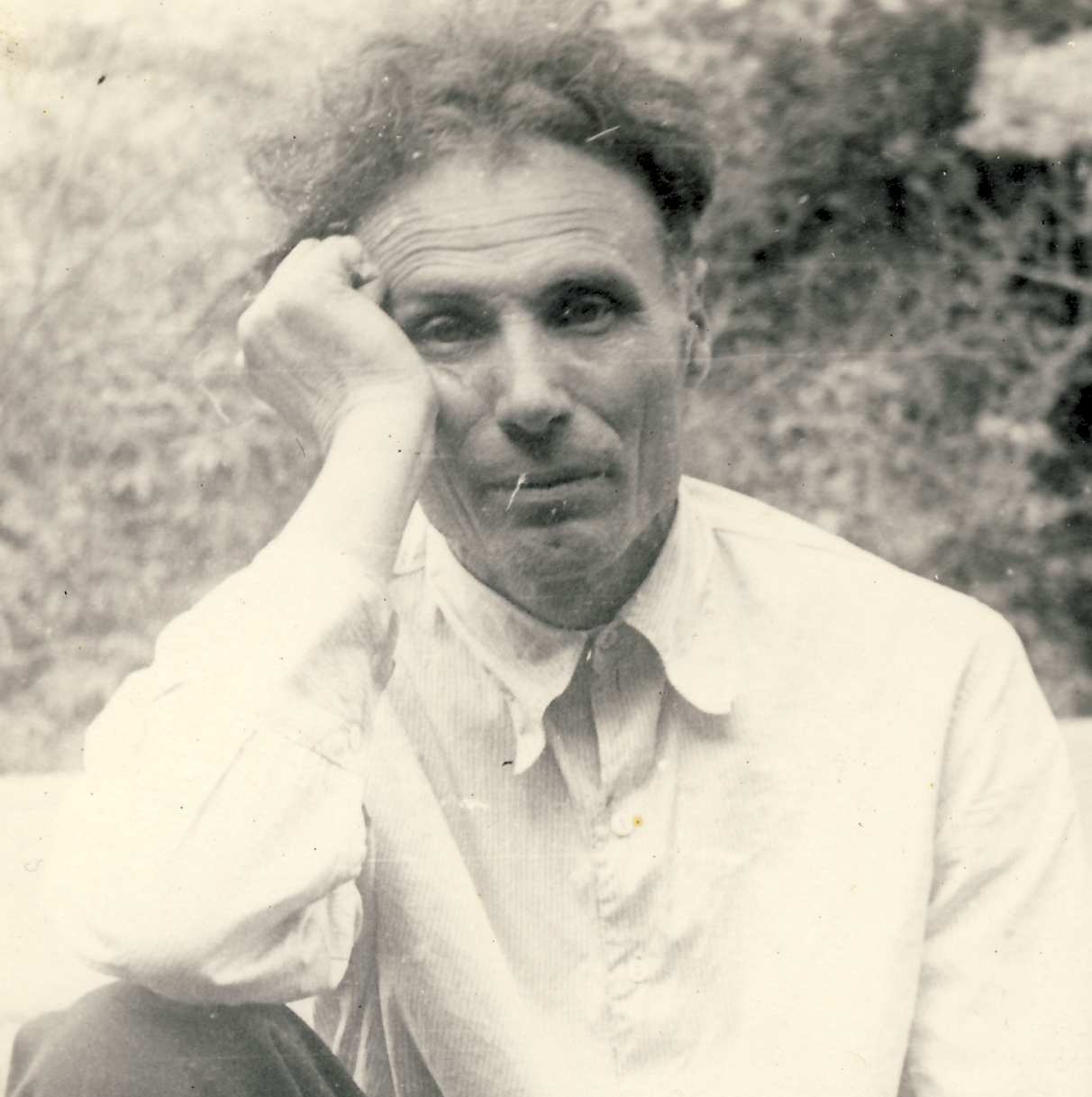 Солнце засветило на
верхушках черешен и повисло в небе большущим коржом. Птички, радуясь славному
утру, заполнили садочки веселым щебетом. И вот солнце уже висит над черешнями.
Капли росы, что повисли на концах листочков, заискрились тысячами маленьких
солнц.
Солнце засветило на
верхушках черешен и повисло в небе большущим коржом. Птички, радуясь славному
утру, заполнили садочки веселым щебетом. И вот солнце уже висит над черешнями.
Капли росы, что повисли на концах листочков, заискрились тысячами маленьких
солнц.
Посередине двора, между хатой и повиткой (сараем) ровным столбом высоко в небо поднимается дым. Это мама, поместив на кирпичах ведровый чугунок, варит на вечерю. Что - сказать трудно. Стакан пшена, несколько мелких картошек и на полчугуна - крапивы, щавеля и иного бурьяна. Мама его рвала, перебирала, мыла, мелко резала. Что-то варится - то ли суп, то ли борщ, определить трудно. Но если подсолить, то вечером и за ухо не оттащишь от миски.
Вот за завтраком такой чугунок опорожнили и разошлись работать. Брат - пасти чужую худобу, сестра - полоть чужой огород. Только маленькая Маруся - в колыбели, что висит на причелине под хатой. Она поела и спит, а мама хлопочет у огня. Я же ей мешаю: то нож унесу, то ложку, которой она мешает в чугуне, обваляю в пепле...
Спрашивается: и почему мама с утра уже готовит ужин? - А потому что не привыкли обедать, некогда, а главное, продукты экономятся...
Вечером приедет отец. Еще вчера в ночь он поехал подводою за 35-км на железнодорожную станцию - возить оттуда в соседнее село кирпич. Там будут строить школу, чтобы учить в ней строителей коммунизма. Кирпич возили все крестьяне, которые в своем хозяйстве имели коня. Выезжали в полночь, а приезжали домой лишь на другие сутки вечером или поздно в ночь. И это была не единственная работа. Они же пахали государственную землю, гарбарували (?), возили лес для строительства. Делали все, где не обойтись без коня и повозки.
Работы хватало каждый день - и летом, и зимою. Звалась она гужевая повинность (гужтруд), от которой никто не освобождался - ни больной, ни старый. Причем гужтруд не оплачивался. Свою же работу выполняли ночами или в редкие выходные.
И вот сегодня приедет отец, сильно утомленный и голодный, да и мы за долгий день проголодаемся, как волченята. И варить не будет времени - сразу все до мисок, мама только успевай подсыпать.
Управившись на "кухне", мама пошла полоть огород, а мне велено гулять во дворе и, если Маруся заплачет, сразу звать ее.
От улицы наш огород отделен густою желтою акацией - как природной оградой. В середине ее разрыв метра на четыре - как въезд нa двор.
Дальше квадратный вишневый садочек, а за ним - хата. Стены ее нeровны, но хорошо выбелены. Крыша не рублена, без гребня. Сверху выступает четырехугольный плетеный из ивы дымарь (труба). Напротив хаты - повитка, между ними площадка двора... Близ повитки участок для соломы и дров. За повиткою до черешен, что посажены у поля, тянется ряд вишен. Это наша граница от Одарки Перепички. За хатою участочек малины. От желтой акации между малиною и голубою клуней (сараем) - до черешен еще ряд вишен - это еще одна граница от другого соседа, Голуба Ф.
События моего первого года жизни.
Родился я шестым в семье 19 марта 1923года. Этот год был продолжением страшного голода и эпидемий, унесших много тысяч жизней. Еще не оправившись полностью после брюшного тифа, отец был вынужден встать с постели, так как уже мать, едва родив меня, слегла в тифозной горячке. Жили мы тогда в хате маминого брата Клима. Сам он, разойдясь в это время с женой, жил в другом месте. Мои братья и сестры были всего на один год старше друг друга.
После тяжелой болезни, в страшное голодом время, с бредившей в тифозной горячке женой, с голодными детьми и только что родившимся ребенком, которого неизвестно чем кормить - ведь в груди матери не было молока, в чужой хате и без всяких материальных средств! И все же мы выжили!
Это подобно фантастике: мать выздоровела, никто из семьи не умер, даже я, ни разу не кормленный грудью матери. Как смог отец в таком положении сохранить себя и семью?
В это время заселяли хутор Юрково. В давние времена хутор принадлежал какому-то казаку Юрку. Там брала начало небольшая речушка, на которой был устроен довольно большой пруд. А рядом располагалась усадьба казака. Еще можно было видеть развалины различных построек - дома, бани и пр. От прислуги богатого казака на хуторе остались жить десятка полтора старожилов. У них были сады из яблонь, слив и вишен, огороды и поля жирного чернозема, не требующие удобрений. Земли было много.
Вытекая из пруда, речушка продолжала течь ровной лентой, расширяясь и пополняясь водой из родников, по красивому лугу с примыкающими к нему огородами. По всему лугу одиночно или небольшими группами росли кудрявые вербы, а между ними заросли верболаза...
О том, что просьба о наделе землей в Юрково решена положительно, отцу сообщили в конце зимы. Но только весной он смог явиться на свой надел. Он увидел: по обоим берегам речки были размерены широкие ровные улицы, а по обеим их сторонам, к реке и полю, запротоколированы четырехугольные наделы ровно по 0,61 га. Незаселенных участков оставалось уже не больше полутора десятка, и располагались они по всему хутору, по какой-то причине обойденные первыми поселенцами. Отец выбрал себе участок на восточной стороне хутора, где до конца хутора уже было застроено четыре усадьбы.
Оставив двоих старших детей, Алешу и Раю, на попечении бабушки (с маминой стороны), наша семья переселилась на хутор, т.е. на четырехугольник черной земли, где не было ничего, кроме зеленых ростков бурьяна. Сгрузили несколько подушек, мамину свиту, отцовский "бобрик" (верхняя одежда для холодной погоды), несколько домотканых ряден (одеял), старую кадушку, гребень, гребенку, мотовило, ступу, жернова, топор, пилу. Самое ценное- восемь прекрасных ульев и столярный инструмент осталось у бабушки.
Еще до голода, учительствуя на Донбассе, отец любил в свободное время столярничать. Он приобрел токарный (конечно, ручной) станок, разные фуганки, рубанки, стамески, долота, сверла. В тех местах пашни было мало, зато степи покрывались сплошь разнообразными цветами - раздолье для пчел. И отец сам сделал восемь ульев с точеными задвижками. Когда голод принудил бросить те края, то инструмент и эти ульи отец не бросил. Три месяца, рискуя жизнью от разных, банд и голода, он переносил их с платформы на платформу, пока не привез-таки к родичам жены. И теперь они в сохранности стояли у бабушки под сараем, но вместо пчел в них хранились инструменты. Рядом стоял токарный станок. Пока просто некуда было их перевозить...
И вот переезд закончился. Мать села на свое "богатство", сваленное в кучу, как бы боясь, чтобы оно не разбежалось, рядом уложила на подушке меня, спеленатого. Отец сел рядом на ступе и, услышав ее первый вопрос: « С чего начинать будем?», долго раскуривал трубку. Растертый в пыль табак не загорался.
- Думаю, начнем с жилища... - но не успел разъяснить, как приблизились несколько мужчин и женщин:
- Здравствуйте, дорогие соседушки! Пусть у вас будет новая богатая жизнь на новом месте! Пусть плодятся телята и ягнята, и поросята, жито-пшеница и всякая пашница! Пусть родятся хлопцы и дивчата, чтобы была веселая хата!"
Одна из женщин отошла к месту, где предполагалось строить хату, и на четырех углах высыпала по горсти ржи, пшеницы, гречихи, проса, овса и прочего. Отец и мать горячо благодарили за теплые пожелания. Когда окончилась церемония знакомства, пошли деловые разговоры. Тем временем подходили все новые и новые люди.
В Юрково уже жила семья маминого брата Данилы. Он, получив от старшего брата Ивана откуп за свою долю на родительской усадьбе, купил в Юрково неплохую, по тогдашним представлениям, хату, и можно было бы на первых порах рассчитывать на приют у них. Но семья Данилы - семь человек, и если подселить к ним еще и нас, то места не хватит и на полу. Правда, мать рассчитывала, что брат ей не откажет поселиться на какое-то время в сарае. Но, когда ехали, она немного отстала от повозки, отвечая на вопросы любопытной женщины, а отец тем временем миновал двор шурина и решительно сгрузил пожитки на своем голом участке.
Многие люди, что сошлись на наш будущий "двор", предлагали свои сараи, благо, еще не занятые. Две бездетные пары приглашали жить в их хатах, ссылаясь на присказку: "В тесноте, да не в обиде!" И чтобы никого ни обидеть отказом, отец во всеуслышанье объяснил собравшимся свой план действий: сначала соорудить курень (шалаш), чтобы укрыть семью от дождей. Потом обсадить огород. До середины лета наделать саман, сложить хату и до наступления холодов войти в нее.
Некоторые люди, припоминая свое поселение, с сомнением мотали головами, дескать, не выйдет...
-Все выйдет! - заявил отец, - вот только где достать жердей?
Ему показали хату лесника неподалеку и начали постепенно расходиться. Оставшись одни, мать и отец оставили имущество и меня на попечение Нины и Жени, а сами пошли на другой берег реки, где, занимая площадь двух огородов, была болотистая балка, заросшая осокой и верболазом. К вечеру две копны осоки, связанной в снопы, стояли на дворе.
Так началась наша жизнь на новом месте. Правда, вечером мать со мной, Ниной и Женей пошла ночевать к Даниле, а отец, расстелив несколько снопов осоки, укрылся бобриком и, не снимая сапог, уснул.
Спал он крепко, но под утро стал зябнуть и проснулся. По всему хутору, то рядом, то далече, пели петухи. Вот кто-то хлопнул дверью. Небо светлело, прятались звезды. И отец поднялся с "постели". Взял ведра, пересек улицу, вошел во двор Якова Ярового, и по тропке, что делила огород на две ровные части, подошел к речке. Она еще чернела двухметровой лентой, местами суживаясь до того, что через нее можно было легко перешагнуть на другую сторону. Но удивительно, что вода заполняла русло речки вровень берегов, казалось, даже выше их. Значит, много родников питает ее. Захватив немного воды ведром, отец напился. Вода казалась холодной, хрустально чистой и вроде даже сладкой. Верболаз и вербы, выбросив "коники", сгустили свои кроны. Луг покрывался зелеными иголками пробивающихся ростков... Kpacoта-то какая! Будничные хлопоты с их тяжестью как-то не совмещались с нею.
Он умылся, набрал полные ведра воды. Рабочий день начался.
Утро наступало быстро. Боясь, чтобы лесник не уехал на работу спозаранку, отец поспешил к его хате, благо она была рядом, только пройти дворы Ярового Якова и Швинки Павла.
Начало строительства. На дворе лесника была хорошая хата, сарай метров в 12, еще несколько строений поменьше. Отец остановился на улице - будить незнакомого человека было как-то несподручно, и он даже решил придти попозже. Но во дворе послышался кашель и мужской голос: "Заходите, заходите! " - Мужчина среднего роста в черном рабочем костюме, в фуражке с лакированным козырьком, медленно шел навстречу отцу. Уже было довольно светло, и отец хорошо разглядел морщинистое, с желтизной кожи, лицо, блестящие глаза, как будто покрытые каплями воды, худые с тонкими пальцами руки.
- Доброе утро, Василий Афанасьевич! - поздоровался отец, желая отрекомендоваться для знакомства. Но лесник опередил его:
- Я Вас знаю, хотя и впервые вижу. Такая моя должность. Каждый новый поселенец, явившись осваивать свой надел, сразу обращается ко мне, а я каждого из них знаю еще с тех пор, как им этот надел только утвердили. И, конечно, знаю их нужды...
- Очень благодарен Вам за избавление от хлопот лишних объяснений. Но ни денег, никаких иных ценностей, чтобы оплатить материал, сейчас у меня нет, но я надеюсь, что со временем и трудясь...
- Я все понял и рад Вас успокоить. Конечно, у меня нет возможности дать вам сразу весь нужный материал: будем заготавливать по одной-две балки, а Вам их, в зависимости от размера, понадобится 12-14 штук. С кроквами (стропилами) и латами крыши будет проще. Когда и что можно взять, я буду Вам сообщать. А за деньги Вы не беспокойтесь, время покажет, как нам рассчитаться. До свидания! - И лесник, решив, что разговор окончен, повернулся уходить, но отец удержал его:
- Василий Афанасьевич! У меня есть еще одна просьба: негде детей укрыть на ночь и в непогоду. Хочу сделать курень, а для него нужны жерди...
- Приезжайте к лесниковой хате, что-нибудь сделаем...
Хотя люди говорили о леснике разное, но все же он - хороший человек. Отец мало его знал и судил по своим первым впечатлениям.
В революционных событиях и гражданской войне Василий Афанасьевич непосредственно не участвовал. Но очень хотел, чтобы советская власть считала его своим, революционером. Для этого он своих детей - моего одногодка Виктора и меньшую на два года Розу - не крестил, а по новому "обряду" - "звездил" (старшая Мария родилась в 1917 году и была уже крещена). Но, приняв на селе этот обряд первым, он оказался и последним. Никто больше не пожелал своих детей "звездить".
В те годы правительство настолько оголтело вело борьбу против религии, что доходило до абсурда. Например, если кто после предупреждения не сдавал религиозные книги, то его забирали, как контрреволюционера. Запрещалось в хатах иметь иконы. В школах всячески поносили попов, рисуя их детям в виде пауков. Не зная, чем занять детей на уроке, "учитель" заставлял детей кощунствовать - "наставлять богови дулю". Происходило, кстати, это так: учитель, скрутив кукиш, тыкал им в угол, повторяя: "Вот, Бога нет, дайте, дети, Богу дулю!" Дети делали дулю, но давали ее учителю.
Взамен венчания вводили комсомольские свадьбы, взамен крестин - "звездины". Но все эти выдумки не прижились в народе. Тайно крестили, тайно венчались. Новым обрядам мешали не только привычные, утвердившиеся тысячелетием обряды, а и неуклюжесть, неоформленность, надуманность этого, якобы, нового.
А некоторые события только укрепляли веру людей. Вот что случилось в соседнем селе.
Молодая девушка жила с матерью, родных больше никого не было, и они очень любили друг друга. Мать, как принято, соблюдала религиозные праздники, имела в хате иконы, иногда читала молитву. Как и у большинства крестьян, не было в этой семье ни религиозного фанатизма, ни хулы на Бога. Подобно матери, поступала и дочь. Но, окончив 7 класс - по тем временам немалое образование, она поступила в комсомол. За активность и организаторские способности ее назначили комсоргом села. И вот высшее начальство поставило перед ней трудную задачу: всю молодежь, девушек и юношей соответствующих лет, втянуть в комсомольскую ячейку, организовать пионеров и т.д. И она отлично справилась с заданием. Ячейки из семи, пяти или даже из трех комсомольцев - это уже хорошо, а она смогла сагитировать 8 человек. И пошли у нее совещания, съезды, комитеты, заседания, пропаганда, агитация. Ей грезилась райская жизнь, но как ее можно достигнуть, она не имела даже приблизительного представления. Уже то, что она стала начальством, и высшее начальство ее уважает, ставило ее в своих глазах выше других, удесятеряло ее рвение. И еще ей давали то конфискованного у кого-то сала, то отобранного у кого-то хлеба. Скажет она, что нет дров - везут дрова и т.д. Чем не преддверие коммунизма? Другим такое недоступно.
И дивчина стала меняться. Перестала просить подчиненных, приказывала, и те исполняли. В результате - сладостное чувство власти. Но вместе с этой сладостью появляется жестокость до садизма. Из любящей нежной дочери она превратилась для матери в лютого врага, заявив: "Не потерплю икон в хате!" И запретила матери молиться. Родной тетке запретила навещать свою мать только потому, что та иногда читала Псалтырь у гроба покойника.
Однажды мать возвратила выброшенные иконы на свое место и заперла свою комнатку. Но пришла дочь, увидела в углу иконы, вновь сняла их и выкинула под хату. Потом схватила мать сзади за косы, вывела ее во двор, повалила на колени возле икон и, дергая за косы, стала толочь стекла икон лбом матери, приговаривая: "Бей поклоны своим богам последний раз, так что бей сильно!"
На улице собралась толпа, но никто не смел и рта раскрыть, знали: покажи она на кого угодно и... Подробивши материнским лбом стекла икон на мелкие кусочки, она, наконец-то, бросила ее. Люди не расходились, но старались прятаться за спину друг друга. И вот на виду у всех она взяла вилы и попротыкала в иконах дыры, где были глаза. Вот, мол, глядите, что я с иконой делаю, и ваш Бог мне ничего не сделает! Но она ошиблась. Мать с окровавленным лицом, держась за стены, ушла в хату.
Вечером на наряде эта богохулительница заявила, что ей нужна солома. И бригадир утром дал наряд на воз соломы. Сложили ее как обычно на повозку - четырехугольником по 2-2,5 м, а сверху прижали толстой длинной жердью-врубелем. Спереди врубель вдевается в веревочную петлю ниже уровня соломы, а сзади притягивается к повозке другой веревкой, сколько есть силы. Такой затяжки достаточно, чтобы солома не растряслась по дороге. Чтобы не нести вилы в руках, человек, накладывавший солому, воткнул их сверху соломы, приколов нечаянно и врубель. Так и доставили заказанную солому к поджидающей хозяйке. Когда повозка заехала во двор, она показала место, где сбросить солому, и не ушла сразу. А мужчины привычно распустили сзади натянутую веревку. Настал момент, когда освобожденная жердина сработала как пружина, и воткнутые вилы взметнулись вверх, на какое-то мгновение остановились и под тяжестью железа полетели зубьями вниз. Хозяйка посмотрела вверх, и в это мгновение зубья воткнулись в ее глаза. Она свалилась на землю вместе с вывороченными глазными яблоками. Обомлевших от боли дочь и от ужаса мать доставили в больницу в семи километрах от деревни...
Конечно, люди задавали себе вопрос: "Что это было?" Но у большинства такого вопроса не возникало. По их твердому убеждению, то было наказание Господне. Молва расходится быстро, и скоро множество людей даже издалека приходило в это село узнать, правда ли, что такое произошло, не врут ли. А убедившись, разносили эту весть все дальше и дальше.
Старая мать после больницы ухаживала за дочерью, как за маленьким ребенком, старалась, чтобы у нее не было никакой нужды. В больнице ей сшили веки, чтобы глазницы не зияли пустыми дырами. Вскоре мать умерла. После похорон дочь бросила хату и куда-то исчезла. Но через три года появилась в своей хате с ребенком на руках, и жизнь ее была незавидная.
Но вернемся к Василию Афанасьевичу. Он болел туберкулезом, и болезнь его прогрессировала. Сам чувствовал, что скоро конец. Чрезвычайно скупая, ленивая и безразличная ко всему жена не очень-то пеклась о нем. Ел он не вовремя, больше всухомятку, что сам найдет съестного. Два года спустя он умер.
С лесоматериалом на хату он, конечно, помог, но отцу за них пришлось тяжко отрабатывать: он убирал полевой надел лесника, косил, свозил, а зимой перемолачивал зерно. Приходилось даже чистить зерно.
Сын его Виктор был моим товарищем с трехлетнего возраста до переезда на другое место жительства.
Весна в тот год была теплой, погожей. Курень у отца вышел на славу. И будто для испытания его надежности прошло два коротких, но сильных дождя - и течи не оказалось! В курене хранилась семейная постель: перина, подаренная маме старухой-фельдшеркой, которая лечила ее от брюшного тифа, еще четыре подушки с гусиным пухом, несколько домотканых одеял, детская одежда (платьица, юбочки, штанишки), зимняя и летняя одежда отца и матери, полушубок и свиты. Свиты носили женщины и мужчины зимой и прохладным летом. Остальные хозяйственные вещи располагались на дворе, прямо под небесным шатром.
Смерть первого сына Алеши.
Вот и посадили картошку, подсолнух, заняв большую площадь. Оставалось высадить капустную рассаду и помидоры. Делами по огороду занималась мать, ей помогали Нина и Женя. Отец же мастерил формы для выделки кирпича.
Вдруг к нему подошел Виктор - старший сын дяди Данилы: "Отец послал сказать: бабушка передала, что Алеша ваш сильно болен».
Услышав про Алешу, сразу прибежала мать: "Что такое, Витя? Что с Алешей?" - «Он болен, бабушка сказала... »
Все 8 км до села мать бежала, не чуя ног. Мальчик лежал в сильном жару. Глаза закрыты, на лбу мокрая тряпка. У изголовья - плачущая бабушка, в ногах - Рая с красными от слез глазами.
- Давно он спит? - спросила мать.
- Ночью немного спал, а потом все бредил, разобрать можно только "мама"... В слезах побежала мама к доктору Цветанову, был у нас такой болгарин. Обследовав Алешу, он сказал: "Двухстороннее крупозное воспаление легких, положение мальчика тяжелое, но будем надеяться". Выписал рецепт, дал кое-какие советы по уходу и ушел.
Полтора месяца боролся маленький организм с болезнью, то подавая надежды, то морозя душу ухудшением. Был ясный день, зелено, расцветали пионы - в этот день жизнь покинула его тело. Алеша был первым сыном, очень умным и красивым мальчиком. Видя мать часто в печали, он подходил к ней, гладил по голове и утешал: "Не журись, мама, мы вот вырастем, будем помогать, и вам с отцом будет легче жить".
Эта тяжелая потеря очень повлияла на нашу дальнейшую жизнь.
Отцовский труд.
Наискосок через дорогу от нас, рядом с Яковым Яровым, жила семья Цегельников: родители преклонного возраста, дочь Ульяна 27 лет и сын Федосей на год младше Ульяны. Парень он был хороший, честный, заботливый, но обиженный судьбой. С груди и со спины у него выпирали большие горбы, кроме того, он был болен сердцем, легкими и страдал одышкой. Старики же работать были уже неспособны. Ульяна пряла, ткала, шила, стирала - женской работы было невпроворот. Поэтому вся тяжелая мужская работа ложилась на больные горбы Федосея. Много хлопот было ему с лошадью. Видя, как тяжело приходится Федосею, отец часто, бросая свою работу, шел помогать соседу. Те, в свою очередь, при нужде давали лошадь для разных поездок.
Давая понять, что личное - уже не личное, и что право на имущество не имеет значения, да и сам человек не личность, а государственное орудие производства, лошадь Цегликова закрепили за отцом и обязали его исполнять гужтруд. Так и начал он тянуть еще одну тяжелую упряжку.
Саман для хаты ему приходилось делать при луне, в редкие часы пребывания дома.
Конец июля. Давно не было дождей... В полночь отец запряг лошадь. Подъехали Тимофей и Левков. Вместе с отцом они возили кирпич на строительство семилетки. Брали на воз 200-250 кирпичей. Один рейс занимал двое суток. Мать положила отцу в сумку несколько картошек в мундирах, огурцов, луковиц, творожку и коржей. Соль в пузырьке, закрытом пробкой, имела постоянное место в сумке. Эта еда - на двое суток. Предвидя жаркую погоду, отец даже верхней рубашки не одел, хотя мать его об этом просила.
Выпроводив отца, мама больше уже не ложилась досыпать, а, взяв ведра и коромысло, пошла к реке. Так заполнила водой всю посуду, кадушки, чугунок, котел. Перед приездом отца она замесит раствор, и он сразу же начнет формовать саманные кирпичи.
Пожар.
Один раз мама покормила меня с соски и положила в курень спать, завесив от мух простынею, а затем, покончив с кормежкой детей, она решила сходить на речку простирать пеленки и принести еще пару ведер воды. Но, выжимая пеленки, она почуяла едкий дым. Выпрямилась и увидела: что-то горит во дворе Ярины Яровой. Зачерпнув в ведра воды, побежала туда и увидела, что горит наш курень! Когда подбежала, то увидела, что он весь стал уже огромным клубом жара, объятый кроной синего пламени и дыма. А невдалеке из комка горящих тряпок раздавался душераздирающий крик. Возле, громко плача, суетилась Рая. Подсознательно мать вылила на этот кричащий ком оба ведра воды, потом выхватила меня из этого чада и обмакнула в кадку. Курень же со всем, что в нем было - догорел. Перья подушек и перины трещали, как сало на сковородке.
Кроме меня, спасти ничего не удалось. Мама осталась в юбке и старой вышитой рубахе, дети - в одних рубашонках, отец - в исподней рубахе, штанах и сапогах, что были на нем. Мне остались пеленки, которые мама только что постирала.
Сбежались люди, но делать было уже нечего. Вся одежда и постель сгорели до последней тряпки. А получилось это так. Взамен печки на дворе было несколько камней, положенных так, чтобы между ними можно было разводить огонь, а на камнях ставить горшок или чугун. Из такой печки в ветряную погоду легко могли выскочить горящие щепки. Но, понадеявшись на тихую жаркую погоду, мать подложила сучьев и поставила варить на ужин фасоль. Фасоль варить надо долго, вот мама и решила: пусть варится, а я простираю пеленки. Дети же играли в жмурки. Вдруг на дворе закружился воздух высоким столбом, захватывая разный мусор. Пройдя над печкой, этот вихрь выхватил пук горящих веток и бросил их на курень. И тот вспыхнул, как спичка. Дети испугались и спрятались за штабель готового самана. Но старшая Рая услышала слабый крик в курене и вспомнила, что там лежит спеленатый братик. Подбежав, она приостановилась в нерешительности перед треском и шумом пламени, но секундная боязнь исчезла от слабого визга, и она бросилась в злое пламя, выхватила скулящий и горящий сверток, и сама горящим факелом выскочила из этого ада на воздух.
Так я еще младенцем чуть не стал жертвой всесильного огня.
Сколько же пришлось отцу и матери поработать, чтобы добыть хоть какую одежду всем! Ведь близилась осень, а там и зима. И потому сложить в этот год хату им не удалось. Все силы пришлось потратить на приобретение одежды и самых необходимых тряпок.
Осень и зима.
Мама крутила прялку, а Рая, Нина и Женя мяли босыми ногами лен и коноплю. Это была большая помощь матери. Пряла она чужое и этим зарабатывала какую-то часть ниток. Из заработанного ткала рядна и полотна на рубашки и штаны.
Отец помогал убирать урожай леснику и другим, кто его просил. Пахал чужие наделы. В этот год наша семья тоже получила надел земли. Один раз сеяли озимую пшеницу и жито, другой раз земля пошла под яровые, третий - толока, чтобы земля один год необработанной уходила под бурьяны... Все наделы были далеко, за 2-3 км один от другого, чтобы вспахать и посеять рожь и пшеницу, отцу надо было заработать у людей на лошадь и зерно. Весь свой клин отец засеял рожью, так как от нее - и хлеб, и солома на крышу хаты.
В редкие часы отдыха отец работал на огороде. Из села он привозил саженцы вишен. Усадил по границам от Голуба и от Перепички по два ряда вишен. Отметил колышками место для хаты и посадил садик с таким расчетом, чтобы хата стояла в садике, кроме лицевой стороны. С тыльной стороны от Голуба он посадил малину. От дороги взамен забора высадил желтую акацию.
Дядька Данила и его семья.
13-летним подростком Данила стал учеником еврея-сапожника. Условия его учебы были такие же, как и у всех тогдашних частников - портных, сапожников, кузнецов и т.д. Ученик должен был работать на учителя год-два до тех пор, пока не станет мастером своего дела. Сапожник оказался жадным и скупым, старался выжать из учеников как можно больше прибыли, но зато требовал чистой работы. Чуть замечал фальшь, заставлял переделывать по нескольку раз. Такая требовательность не давала ученикам возможности привыкнуть к халтуре и привила им вкус к красоте хорошо сделанной вещи. И о Даниле потом говорили: "Ну, сделал сапоги, как лялечки!"
Наконец, учение закончилось. Данила с радостью ощутил свое прочное место в жизни. Ему 16 лет, он здоров и красив. Темные волосы зачесаны с пробором, черные брови, мраморно белое лицо. Тонкие черные усики он завивал вверх. Главное - в его руках было ремесло, которое сулило неплохую жизнь. И вот, взяв в сумку железную сапожную лапку, шило, смолу и воск, простился с домом и ушел.
Работал он на дому у заказчиков. Заказчики давали ему приют и кормили, пока не будет выполнен весь заказ. Хозяева шли на такой порядок работы с большой охотой, так как видели, что материал идет именно на сапоги и не крадется. И вот слава о сапожнике, который делает чудо - обувает всю семью, летела по округе. Его перевозили из села в село, с городка в городок. И однажды он услышал, что рядом Киев - мать русских городов. В кисете он чувствовал приятную тяжесть металлических монет разного достоинства и металла. Там обитали даже золотые рубли.
Данила решил: пойду в Киев, посмотрю Лавру, реку Днепр и другое что интересное, поработаю там, и в обратный путь, домой. Киев показался Даниле живой сказкой. Кипящая жизнь большого города закружила его, как в сказочной карусели. Ему было интересно везде побывать и все испробовать. И потому скоро он ощутил, что кисет его заметно полегчал. Денежки таяли, как лед на солнышке. Созревало решение двинуться в обратный путь. Но случай изменил его решение.
Перед тем, как покинуть Киев, он решил купить несколько пар сапожных колодок разных фасонов и с этим пошел на рынок. Здесь он неожиданно встретил бывшего соседа. Это был офицер, улан лейб-гвардии кавалерийского полка охраны Его Величества императора Николая II - Мурза Мирон Андреевич. В Киеве он случился по каким-то казенным делам. Обнялись они, как родные. Мирон Андреевич, красивый и обаятельный, в красивой кавалерийской форме, повел его к себе на квартиру, где собирались его друзья. Скоро офицеры узнали, что молодой человек прекрасный сапожник и завалили его работой: сапоги, штиблеты, ботинки разным барыням и барышням. Платили, не скупясь. Мирон Андреевич устроил Данилу на квартиру и уехал в столицу. Это была небольшая пристройка к большому дому, принадлежавшему старой женщине, предназначенная раньше для дворника. Там была кровать, печка для обогрева, и уж сам Данила поставил сапожный стол для работы и несколько полочек для инструментов. Жил он скромно, уютно, а главное - дешево. Работал он много, увлеченно, клиентов было много и почти все - богатые люди.
Но назрели грозные события. Киев захлестнула революционная волна. Демонстрации, забастовки, непонятное брожение в народе. Работы стало меньше. Вынужденно бродя по улицам, однажды он встретил молоденькую девушку, богато одетую и очень симпатичную. Она так ему понравилась, что он, преодолев свой страх, заговорил с ней. Она же ласково ответила на его вопрос. Знакомство состоялось. С этого дня они часто встречались, полюбив друг друга, поженились. Ольга Павловна служила горничной в очень богатой дворянской семье. Большой дом был все время переполнен гостями, одни уезжали, другие приезжали. Принимала гостей чаще всего именно Ольга Павловна.
Ее молодость и красота, дополненные непринужденной услужливостью, покоряли молодых и старых повес. За наброшенный на плечи величественно, с очаровательной улыбкой, плащ гостя Ольга Павловна получала часто рубль золотом или трояк ассигнациями. За надевание галош гости иной раз надевали ей золотой перстень на пальчик или золотые сережки в ушки. Таким образом, у нее насобиралось много ценностей - браслеты, кольца, серьги, золотые, с камнями и без камней, золотые рубли и пятерки. Все не золотое она раздаривала другим слугам и лакеям.
Но когда наступил 1917 год, то все ее хозяева и покровители удрали за границу. Под впечатлением разных разговоров, боясь ограбления, Ольга Павловна связала в платок три килограмма своих ценностей и сдала их в банк. Ведь банк во все времена русского государства был гарантированным хранилищем ценностей, государственных и частных. Сдав в банк свои ценности, она не сомневалась, что пройдет буря, и она вернет то, что сдала. Откуда ей было знать, что настало время, когда никто никому ни в чем и ничего не может гарантировать, и не будет гарантировать.
Ольга Павловна и Данила занимали тесный флигелек в бывшем барском доме, где разместился какой-то рабочий комитет. Начали рождаться дети. Первым явился на свет Витя, потом Сережа, за ним Дима. Жить становилось все труднее. Шило и дратва лежали на сапожном столе без употребления. Люди становились все более ободранными, им было не до обуви и одежды. Желудок все более требовательно обращал на себя внимание. Начался голод.
Выход был один: уехать в родную деревню. Но Ольга Павловна все оттягивала отъезд, надеясь получить хоть часть своих сокровищ. Пока Данила не сказал твердо: "Пустая это затея, когда все рушится и не к кому обращаться. Мы дождемся лишь, что дети станут умирать с голода, а получить тебе ничего не удастся!"
Наконец, они выехали. Родительскую старую земляную хату занимал старший брат Иван. Старшая сестра Василиса была замужем за Павлом Захаровичем Крицким- неграмотным, жадным и во всех отношениях дурным человеком. Младшая Груня была замужем за приезжим учителем, кроме диплома и 35 рублей зарплаты не имевшего ничего. После же революции он потерял и это. Средний брат Клим женился, купил себе участок и построил довольно приличный домик с железной крышей.
Отцовский огород в 20 соток Ивану теперь пришлось поделить с Данилом. Жена Ивана была сирота-бесприданница. У них было двое детей: Мефодий и Ольга. С Иваном же жила и мать их Марта.
Делить крестьянскую землю тяжело, а когда ее кот наплакал, то еще тяжелее. Даниле вместе с десятью сотками земли отошел и повитка. Из нее получилась хатка. Я избавлю читателя от описания жизни двух братьев в соседях. Это прекрасно описано в книге "Кайдашева семья" (?) Но Иван и Данила все же поняли, что жизнь их будет всегда отравлена мелочными житейскими спорами. И тогда при помощи родственников Данила купил хату в хуторе Юрково. Когда же наш отец получил там участок, Данила уже был старожилом хутора, ведь с момента покупки хаты прошло уже три года.
Болезнь Алеши и пожар очень замедлили подготовительные работы на постройке хаты. А уже наступала осень. Поэтому Раю, Нину, Женю отвезли к бабушке, а родители со мной поселились у бездетных соседей, Хитриков.
Это были неопрятные, но добродушные люди. Хата, как обычно - небольшая. В ней печь-лежанка и деревянный топчан вместо кровати. Стены покрыты сажей, лежанка облуплена, земляной пол в ямах. Детей нет - не для кого и заботиться, а потому Сергей и Домна так обленились. В их движениях чувствовалась вялость и апатия ко всему. Только наше вторжение немного оживило их полусонную жизнь. Мама в первую очередь побелила стены, потолок, заделала выбоины и глиной с конским пометом, хорошенько смазала пол. Побелила и подвела печь и лежанку. В хате стало светло и уютно.
Сергей Хитрик, лежа на обновленной лежанке (она была местом сна и отдыха для него, Домна занимала печь, отцу и маме отдали топчан, а мою люльку подцепили к потолку возле топчана), читал назидательные лекции своей Домне о санитарии и гигиене.
Зимовка
. Зима была снежная и морозная. Сильные метели часто досаждали людям. Все занесло глубоким снегом. Топлива было достать трудно, и в хатах замерзала вода. После завтрака отец уходил на работы с утра до ночи: молотил людям рожь, просо, гречиху. Все стремились к весне окончить с обмолотом. Молотьба была основной работой всю зиму. Сквозняк, пыль, набивающаяся в уши, нос, рот. Цеп, грабли, разъедающий тело пот постепенно сутулили его фигуру, морщинили лицо, уносили силы, а ему не было и 40.
Домна залезала на печь и укрывалась разным тряпьем, Сергей на лежанке укрывал себя кожухом. И между супругами начинались незлобные обвинения друг друга в самых разных областях жизни. Мама пряла пряжу и через пофыркивание (жужжание) веретена слушала их немудреные разглагольствования, а про себя думала: "Как могут эти люди жить вместе, оговаривать, обвинять и ненавидеть друг друга?" - За зиму мама привыкла к их образу жизни и перестала ему удивляться.
Хотя мы перебрались к Хитрику, но продукты, картошку, капусту и прочее пришлось хранить в Даниловом лёху (погребе), где была выделена каморка. Ольгa Павловна знала, что мать никогда не может ничего брать не своего, и потому без присмотра дозволяла входить в их лех, когда понадобится. Но вот с ее стороны было не так. Мама видела, что большая поначалу куча ее картошки тает, как снег на солнце, так что скоро не станет чем даже сажать огород. Конечно, мама тактично давала понять Ольге Павловне, что видит кражу. Но та продолжала делать свое, оставаясь чуткой, заботливой родственницей. И что сделаешь: ведь ни брат Данила, ни муж не поверят, что очаровательная, умная и честная Ольга Павловна может взять чужое. И все же мама решила поговорить с братом.
Данила в то время уже болел. Он еще кое-как сапожничал, но большее время лежал в постели, после воспаления легких у него открылся туберкулез, он стал себя плохо чувствовать, таял на глазах, стал раздражительным, и мама, жалея брата, все больше подпадала под власть невестки.
В прежней жизни Ольга Павловна привыкла к горницам, и теперь хлопотала лишь в хате. Работа на огороде была ей чужда, она не брала в руки ни лопату, ни сапу. Когда Данила был здоровее, он шил сапоги, делал ремонт обуви, за что ему обрабатывали огород, сажали, пололи, собирали. Когда же он заболел, эти обязанности легли на мою мать, а позже - на выросших сыновей. Она же ими только руководила.
Привычки, выработанные с юности в панских горницах, не покидали Ольгу Павловну. Все-то она старалась припрятать, приберечь, никогда не используя припрятанного. Оно или пропадало, или по воле случая им пользовались посторонние люди. Так, сданными в банк ценностями воспользовался какой-то неизвестный ей человек. Взятая у нас картошка гнила, в чем она позже сама признавалась, конечно, сожалея о потерях. Таких случаев, как с бестолково взятой картошкой, было много, бессчетно. Удивительно, что, теряя накопленное, она продолжала этим заниматься до самой смерти.
Случилось в ее жизни сильное потрясение. Когда дети ее разошлись по свету, Ольга Павловна осталась одна, но каким-то образом умудрялась делать так, что ей обрабатывали огород, убирали его, а потом, при нужде, покупали прибереженные ею продукты. И таким образом она скопила довольно крупную сумму - около пяти тысяч рублей, все надеялась порадовать этими деньгами сыновей, когда вернутся. Но случилось иное.
С Ольгой Павловной подружилась семья Голуб. Ее меньшой Вася был другом Васи Голуба, а когда сыновья оказались далеко от дома, то старушки делили горе разлуки и сердечно сдружились. Но вот Голуб-отец, узнав о наличии довольно крупной суммы у приятельницы, решил завладеть этими деньгами. Выдумав какую-то нужду в деньгах, он попросил занять их на короткий срок. Отказать Ольга Павловна ему не могла. Заняла, конечно, без расписки, на совесть. А когда пришел срок, попросила вернуть деньги. Приложив руку к груди и очень сердечно, Голуб ответствовал: "Дорогая Ольга Павловна, но ведь я же вернул Вам деньги... - «Как? Когда?» -« А тогда-то»"
Приехал домой Сережа с женой и ребенком. Надо было строиться - вот когда пригодились бы деньги. Где они? - Деньги занял Голуб... Долго Сережа взывал к совести бывших друзей Ольги Павловны. А те уперлись: "Отдали, она забыла!" - Вот и все.
Пошел Серёжа искать правды к властям, но узнал, что "если есть расписка, то подавайте в суд. Если же расписки нет, то плюньте, разотрите сапогом и выкиньте память об этих деньгах из головы, раз этот человек не отдает их по своей воле".
Годы шли...
Прошло два года непрестанных трудов и лишений. Но радовало сердце, что теперь семья имеет хату и повитку. Посаженный садок рос буйно и роскошно. А когда была сложена из земляного кирпича хата, она оказалась в густой зелени деревьев. По границам от дороги вишни, спереди черешни - в три раза выше вишен, с черными средней величины плодами. Рядом, чуть ниже - шелковица с белыми, очень сладкими, длиной в мизинец пупырчатыми ягодами. Ряд черешен от поля своими верхами, как тополи, вонзались в небо. По этим-то черешням с любой точки хуторских земель издалека была видна наша усадьба. Повитка, сложенная из такого же самана, стояла прямо против хаты, и между ними образовалась уютная дворовая площадка.
Отец и мать радовалась результатам своих тяжких трудов и после тяжелого дня в виде отдыха любовно осматривали каждое деревце, каждый кустик смородины и малины.
Кроме бытовых условий, кое-что изменилось и в семье. Одна из восьми сестер отца, жившая в Ирпине (пригород Киева), имела двух дочерей. У младшей, Ирины, муж был инженером, и жили они в центре Киева, вблизи от Золотых ворот. Старшая, Надежда, имела мальчика, потеряв мужа на втором году замужества. Сама же Саня, была уже довольно старой женщиной и с трудом обихаживала себя. Надя работала преподавательницей, и потому некому было нянчить ее сына Леву. Вот и решили они взять к себе нашу Раю, конечно, с обещанием, что она будет учиться и т.д. Вот так Рая в свои 8 (???)лет сделалась нянькой и горничной у своей двоюродной сестры (тетя Саня недолго прожила после приезда Раи).
Жарким августом 26 года родилась Маруся. Я в это время уже много шкодил и разбрасывал на буряках отцовский инструмент, за это особенно сердилась мама. Но как бы она ни прятала нож, я его обязательно находил и забрасывалась куда-нибудь, обрезая себе руки. А злополучный этот нож был один на хозяйстве, и без него на кухне, как без рук. Мама тогда брала меня за ручонку и водила по бурякам. Случалось, что таким образом мы с мамой обходили весь огород, а через некоторое время находили его на улице в кустах полыни.
На наей улице произошли события. У Ярины Яровихи умер муж, а потом куда-то исчез старший сын Иван. С ней остались дочь Санька, ровесница нашей Нины, и Никита, одногодок нашему Жене. Со своего двора я часто видел сгорбленную женщину в хорошей одежде, озабоченно снующую от хаты до повитки и обратно, как будто она что-то ищет. Иногда она поворачивалась ко мне, и я видел оледенелое широкое лицо, немигающие страшные глаза, непонятные движения рук. Мне чудилось, что она ведьма и вот-вот схватит меня и на метле унесет в страшный лес с чертями и ведьмами (об этих тварях я слышал много сказок от Цепельниковой Машки и от других старших девок). С плачем я убегал в огород к маме. Расспросив, она каждый раз уговаривала меня не пугаться. "Баба Ирина потеряла мужа, куда-то пропал сын. Вот она, бедная, мучается от такого горя, а плохого она никому не сделает". Я успокаивался, но, увидев эту женщину, снова убегал и прятался все время, пока она бродила по своему двору.
1928г.Выезд Цегельниковых.
Помню серое туманное утро. Вся наша улица - возле двора Цегельников. Суета. Идет распродажа имущества. Нет, это не раскулачивание и не арест врага народа. Еще и слов таких не слышали. Цегельник с нашей улицы и еще пять семей с других улиц добровольно переселяются на Дальний Восток.Мужчины уговаривают старого Цегельника: "Куда тебя несет? Старого, немочного, жена больная, сын горбатый, никудышный работник. Одна Машка разве вас всех прокормит? Зачем тебе искать могилу на чужбине?" Старик молчит. Наверное, он сознает свою ошибку, но исправить ее нет возможности. Хата продана, остальное и продукты - что проданы, что розданы. А агент по переселению торопит. Вот уйдет эшелон с переселенцами, когда еще будет другой? Может, через месяц, а может, и через год... Где и как это время жить? Надо торопиться.
Женщины торгуются со старым за горшки, миски, макитры, кадушки. Мужики - за лопаты, косы, серпы, бороны, плуг и другой железный, дорогой товар.
Лошадь и телегу Цегельник отдает моему отцу. Ведь отец все четыре года обрабатывал землю свою и его, работал и содержал лошадь. Кроме того, кобыла эта старая, беззубая, скоро будет ей конец. Телега тоже держится на честном слове. У нее справны, может, только оси.
Горбун Федосий безучастно сидит, как изваяние, на колоде и маленькое его личико закаменело. И только расходящиеся и сходящиеся горбы выдавали, что жизнь в нем еще теплится.
Здесь же я стоял между девками, держась за Нинину руку, и все хотел увидеть. Вдруг Машка схватила меня на руки и залилась горькими слезами. Не понимая, что делается, но чуя, что происходит что-то важное и безвозвратное, я тоже заплакал. Жаль было Машку. Она часто приходила к нам, и мы с Ниной и с отцом почти каждый день бывали у Цегельников. И никогда Машка не оставляла меня без внимания. Брала меня на руки, подбрасывала вверх, нянчила, а в свободное время рассказывала страшные сказки о ведьмах, чертях, красивых царевичах и царевнах, об Иванах-дурачках. Для меня они были не сказками, а былями. Bсe это днем жило где-то в лесу, а ночью - даже у соседей. И еще у нее для меня были всегда припасены "петушки". На прощание она всегда выносила красный или желтый на шесточке петушок, твердый и очень сладкий...
И вот она обливает меня, почему-то именно меня, горячей слезой. Девушки и женщины вокруг нас плачут, утирают глаза... Наконец, ярмарка окончена. После многочисленных рукопожатий, пожеланий и напутствий Цегельники уселись на повозку к своим узлам. Рядом с возницей усаживается уполномоченный по переселению - и повозка трогается в путь.
Девушки поют: "Села на машину, дали свисток,/Прощайте, подружки, еду на Восток. / Села на машину, задула в трубу, / Прощайте, подружки, к вам больше не приду".
Поравнявшись с хатой Савгина (это конец нашей улицы), повозка и толпа девушек и ребят скрывается за пригорком и песни почти не слышны. Люди еще некоторое время обсуждают событие, отходя от остолбенения, и уносят по домам приобретенные вещи.
Появление кобылки Машки.
Сухая осень. Все поблекло и высохло. Куда-то девалась сухонькая травка, оголенная земля чернела, отдавая холодом. С тех пор как не стало сочной травы, наша лошадь все больше слабела. Сухое сено за всю длинную ночь оставалось нетронутым до утра. Овес она набирала в рот, но и он, измочаленный слюной, выпадал обратно в ведро. Или стояла, опустив в желоб голову. Отец попросил придти Мирона Андреевича, того самого, что служил когда-то в лейб-гвардии Его Величества. Теперь он занимался ветеринарией. Кое-что в этой области он перенял от конских врачей на службе, многое узнал на практике. Так что и без диплома, самоучкой, он имел довольно большой авторитет, как человек знающий...
- Эге, да она совсем дряхлая старушка. Посмотрите, Иван Михайлович, ни одного зуба. Чем прикажете ей жевать сухое сено и твердый овес?
- Как же быть, Мирон Андреевич, как же поддержать ее до лета? А там пойдет мягкая травка, и она оживет снова.
- Никак уже Вы ее не поддержите. Вышел ее срок, уже не дожить ей до мягкой травы. Тут другое. Нужно, чтобы она протянула хотя бы месяца два. Она скоро ожеребится - видите, она полнее, чем положено в ее состоянии.
- Да не может этого быть!
Отец был ошеломлен услышанным. Ведь он работал почти три года на этой лошади и не помнил, чтобы хозяева ее спаровывали.
- Мне Сергей Ильич никогда не говорил, что она жеребая.
- Сергей мог и сам об этом не знать. Ведь лошадей выводили на ночь пастись. Вот там она и погуляла. Кстати, ее худоба дает возможность прослушать биение жеребенка.
Он взял руку отца и приложил ее к боку кобылы ниже паха:
- Ну, что Вы ощущаете?
- Толчки.
- Эти толчки и есть биение жеребенка...
Все, что сказал Мирон Андреевич, сбылось. После его визита днем и ночью отец следил за состоянием лошади. В одно утро, проснувшись, мы увидели в углу на свежей соломе маленького, черного, как смоль, жеребенка.Отец позвал нового соседа Кондрата, еще Федота, Никиту Шлявского. Они попытались поставить лошадь на ноги, чтобы покормить жеребенка. Но с этой затеей ничего не вышло. Ноги лошади подгибались и она падала. Решили держать лошадь вчетвером, пока жеребенок будет сосать мать, но он не понимал, как это делать, и остался некормленым. Не прошло и полсуток после родов, как лошадь умерла. Отец, заняв лошадь у М.Левка, свез павшую на салотопку, так как он обязан был сдать государству ее кожу (шкуру).
Жеребенок оказался кобылой. Вечером за ужином Нина или Женя предложили назвать ее Машкой. Предложение приняли единогласно. Мирон Андреевич составил рецепт кормления. Молоко и кипящая вода смешивались в определенной пропорции. Новые поселенцы Явдохи привели с собой коровку первого отела и с охотой согласились отпускать молока для кормления Машки.
Кондрат Явдоха был высокого роста с небольшой, как бы кубиком, головой. В меру разговорчив. Жена его, Евдокия, роста была выше среднего, круглолицая, румяная, голосистая, веселая и общительная женщина. Они как-то с первого дня подружились с нашей семьей и всегда со всеми своими горестями и радостями шли к нам.
Машка стала восьмым членом нашей семьи. В ее распоряжении была сначала бутылка с соской, потом глубокая глиняная миска, с которой она выхлебывала лично для нее приготовленный суп. Был у нее также туалетный горшок.
Насытившись, она ложилась в своем углу на соломе и во сне причмокивала губами, наверное, видела сон. Хорошо полежав, она вставала и подходила к маминой прялке, мешая маме прясть. Тогда я спрыгивал с лежанки и затевал с ней игру. Она стремилась поймать меня своими мягкими губами, а я убегал. Солома, укрывавшая земляной пол, перетиралась на мягкие мелкие части и от нашей возни пыль туманом стояла в хате. Маруся в своей люльке начинала плакать. И тогда мама прекращала нашу игру, открывала дверь во двор, освежая комнату.
После обеда приходили Нина и Женя из школы и начинали учить уроки. Потом мы все вместе играли в жмурки, пока не принимались за дело: вынимать кострицу из конопли... Мама всю зиму пряла, мотала, ткала...
Ликбез.
Отцу отдыха не было и зимой. Всю неделю - то общественная работа, то валка леса, то разборка кирпичных зданий бывшей экономии где-то в тридесятом селе. В общем, работу находили, и не смей остаться дома, пришьют саботаж и тогда...
- Хотя бы в воскресенье отдохнуть,- жаловался он маме. А в воскресенье самая тяжелая работа: две "десятихатки". На деле у него было два участка, в одном из которых было 20 хат, а в другом - целых 25. На этих участках он отвечал за "ликвидацию неграмотности", т.е. должен был научить всех жителей писать и читать - кроме школьников, которые ходят в школу.
Оно бы и ничего, если бы была хоть одна большая хата, чтобы вместилось побольше людей. А так приходилось собирать лишь по 7-10 человек. Кроме того, хорошо учить обычных, нормальных людей. А каким образом учить 90-летнюю старуху, которая забывает свое имя? Или старую и глухую женщину, которой и без чтения жизнь в тягость? И таких много. Нужна ли им в такие годы грамота? - Но отец должен учить, и точка. Начнешь возражать - могут прицепить саботаж. Вот и бьется отец до изнеможения в воскресенье и вечерами в рабочие дни. Ничего не поделаешь - диктатура пролетариата, самой гуманной власти на земле!
"Революционер".
Зимнее утро. Мама трет в макитре поджаренный "рыжей", Нина и Женя разбирают тряпье и веревки. Тряпьем утепляют ноги, а веревками увязывают его, чтобы это тряпье держалось на ногах. Это длительная и самая тяжелая часть сборов в школу. Наконец, размяв, обкрутив и увязав ноги так, чтобы рваные концы тряпок не торчали наружу, кончают с обуванием, собирают тетрадки, чернильницу, ручки в торбы. Все готовы.
Стекла, покрытые намерзшим снегом, при тусклом свете блистающего каганца становятся светло-синими. Маруся спит еще на подушке. Я - на лежанке, вровень с краем, сижу, вместившись в разное тряпье, и глотаю наполняющую рот слюну. В хате приятный дразнящий запах "рыжиц" смешивается с запахом свежеиспеченных коржей. Вся плоть моя ждет с нетерпением завтрака. Наверное, эти запахи действуют и на Машку. Она лежит в своем уголку, часто шевелит губами, будто что-то жует.
Отец входит в хату (он чистил двор от снега) и тушит каганец.
- Пора, Груня, детям в школу.
- Садитесь за стол. - Мама дает два коржа отцу, чтобы он разделил на завтрак каждому свой кусочек. Потом наливает пшеничного супа в большую глиняную миску и заправляет ложкой тертого "рыжия". "Рыжий" заменяет масло и продает вкус пище. Все, кроме мамы, окружают миску. Она же привыкла кушать стоя, остатками, которые бывают редко. Садиться ей некогда: то подать, то подлить.
- Что-то Арсеньевич опаздывает,- отец не успел договорить, как дверь распахнулась и вместе с холодным паром в хату ввалился сам Федор Арсеньевич - а, легок на помине!
Гость снимает головной убор - что-то грязное (из дыр торчат клочья грязной ваты), неизвестно, из какого материала, то ли кожаное, то ли так засаленное до блеска, в виде тюрбана. Быстрым движением он достает "свою" ложку, потеснив у миски меня и отца, и начинает ею усердно работать. Отец положил перед ним свой кусок коржа - тот сразу его ухватил, жадно глотая, не разжевывая, только смачивая куски супом.
Мать, как всегда, поделила свою порцию с отцом. И вот, 10-литрового горшка супа как не было, опорожнили за считанные минуты.
Нина и Женя пошли в школу. Отец тоже ушел. Мама покормила проснувшуюся Марусю, потом Машку и села за прялку. Федор Арсеньевич (так его звал только отец, для остальных он был "Колобок", и я так его буду называть в дальнейшем), так вот, Колобок, позавтракав, уселся на стульчик возле лавки, подложил под голову на лавку свой тюрбан. Мама предложила ему лечь на топчане, он отмахнулся и уснул по-своему. Так он делал всегда в морозное время. Мама пряла. Я с Марусей играл немногочисленными игрушками: катушками, деревянными куклами, глиняными свистульками в виде лошади или барана. Забавляя Марусю, я смотрел на спящего в непривычной позе человека. На лавке лежала огромная лысая голова, ленточка волос обрамляла верхнюю кромку уха, дугой огибала его на затылок вниз и по затылку длилась ко второму уху. Волосы торчали черные, мелко курчавые. Огромная выпуклость головы, летом черная от загара, теперь белела, сливаясь со стежкой. Коричневое небольшое и сморщенное личико резко контрастировало с огромной остальной частью головы. Низкий рост, короткие ноги, длинные руки - все эти диспропорции создавали облик не человека, а какого-то демонического урода. Не просыпаясь, он то одну, то другую руку часто засовывал под свой кожух, чтобы почесать тело, где досаждали ему прожорливые вши. Сам кожух - весь в дырках, заплатах, засоленный до того, что от него несло таким смрадом, что меня начинало тошнить. На ногах - резиновые боты с отворотными холявками, лааные-перелатаные разными кусками кожи. Они походили уже не на боты, а на слоновые копыта.
А ведь он имел огород, три надела земли по тогдашней трехпольной системе земледелия. Имел жену и сына - моего одногодка. Но в огород он шел только, когда там можно было нарыть картошки, нарвать огурцов и помидоров. Поля своего он не обрабатывал, оно покрывалось буйным бурьяном и становилось их рассадником. С женой не жил, называя ее стервой, жидовкой, сына не вспоминал и не кормил, называл его выродком и ублюдком. Но все же жил в одном жилище с ними - как вошь на их теле. Не хатой, а жилищем я называю это что-то, и только потому, что в нем жили три человека. Это земляной квадратный мур 3,5x3,5 м. Взамен потолка - набросаны жерди с необрубленными сучьями, устланы сверху стеблями полыни и смазаны земляным раствором. Все это покрыто вязанками полыни, из которых торчит дымовая труба. Большую часть этого помещения занимали печь и лежанки. В углу - небольшая скрыня (сундук), в которой когда-то было приданое хозяйки. Около лежанки небольшой топчан из жердей, под которым стоял еще сундук 50х70 см с секретным замком, окованный узорчатым железом. Все это было покрыто толстым слоем сажи, которая от тяжести часто осыпается со стен, как снежная лавина с гор. Пол весь устлан полуметровым слоем полыни. Пыль от сажи и густой настой полыни вызывали спазмы дыхательных органов у всякого попавшего сюда человека. И нигде не висит ни одежды, ни тряпки. Все, что есть - все надето. Летом, правда, он ходил в сюртуке, кожух запирал в сундучке. Она ходила в малиновой кофте, а свита покоилась в скрыне. Федя - в кофте и полотняных штанах.
Чем же живут эти люди, как земля их держит? - Трудный вопрос.
Когда-то, в бурные дни беспорядков и насилия у холостых, да и у женатых, не очень старых мужчин, появилась тяга где-нибудь скрыться, убежать от самих себя, из-за боязни попасть не по своей воле в какую-либо банду, которых тогда много свирепствовало и которые насильно мобилизовывали мужиков. Полная неопределенность. Кроме того, действовали разные слухи, среди которых были и очень заманчивые. Например, рассказывали, что убегая заграницу, разные богачи берут с собой только золото, а всякое иное барахло бросают, и потому в их брошенных домах полно разных кожухов, пальто, сапог, разного фабричного полотна и иных полезных предметов - и никто ими не интересуются. Кто распространял такую чушь, и с какой целью - неизвестно. Но этим одурачивались многие и добирались в крупные города - Киев, Одессу за поживой.
Воспоминание о Киеве Федора Арсентьевича.
Пробрался в Киев и Федор Арсентьевич. Конечно, ни брошенных сапог, ни кожухов с пальто он не обнаружил. Увидел толпы оборванных, как и он, людей, а также чисто одетых жандармов, солдат, конных казаков. Море людей запрудило улицы, площади, бурлило, гудело, бряцало, толкало из стороны в сторону. К кому ни обратишься с вопросом - равнодушно уходят или дадут крепкий подзатыльник... Что делать в данных обстоятельствах?
Федор толкался в киевской толпе, не евши и не пивши, несколько дней. Ночью набрел на какую-то площадь. Кое-где под рундуками на ней стояли ящики с разным хламом. Он перерыл все их содержимое, но съестного не нашел. Живот подводило до боли, есть хотелось до тошноты, болела голова, совсем не было сил. Он упал под рундуком и забылся.
Ночь дышала прохладой, камни остыли, а вместе с ними остывало и тело. Сквозь сон или забытье он почувствовал, что тело его сжимается от боли в боку. Потом услышал мужской голос и раскрыл глаза.
- О, живой! - человек поднял метлу, ручкой которой он пихал в бок Федора.
- А я думал, что мертвый. Какого черта тут валяешься? Кто ты такой? Федор рассказал человеку, кто он и откуда, ожидая участия. Ведь это был первый человек, который заинтересовался им.
- Так чего же ты забрался в такую даль без родных и знакомых, да еще и без денег?
О возможности такого вопроса Федор раньше и не думал. Сказать, что он пробрался сюда за всяким богатством - стеснялся, а выдумать что-нибудь не смог.
- Вот видишь. Я и подумал, что ты злодеяка, так оно и есть. Сейчас придет полицейский, и он скоро найдет тебе квартиру".
Перспектива, нарисованная уборщиком, была страшна, и Федор поднялся на ноги, отступив на несколько шагов, рванул за рундук, а там, на улицу, где уже спешили ранние пешеходы.
Опять он бродил по улицам, ведомый мучительным голодом, пока ему не пришла мысль вернуться на площадь, где он провел ночь. Там, наверное, был базар. И не ошибся. Сперва бродил между торговцами съестным, пробовал просить хлебца. Но в ответ - брань и толчки. Воровать ему не приходилось, не умел. Но "голод не тетка - всему научит". Приловчившись, он стащил целую паляницю (хлебину) у веселенького продавца. А потом пришла и вторая удача: удалось напиться воды.
Он решил уйти из города, возвратиться домой. Каждого из прохожих, кто только слушал его, расспрашивал, как выбраться из Киева в сторону Глухова. Но все указывали в разные стороны. И потому ходил он из квартала в квартал, то вперед, то обратно. Но вот на улице, по которой шел Федор, показалась пестрая толпа: мужчины по-разному одетые и не одетые, женщины, полуголые и почти голые. Они несли на древках фанерные щиты и большие полотнища, на которых крупными буквами было что-то написано, подписи и рисунки. Но Федор читать не умел и смысла рисунков не понимал. Эти люди что-то вместе выкрикивали, потом вместе пели и снова во всю грудь кричали.
Федор был увлечен толпою, особенно видом женщин. Не сознавая, что он делает, пристроился к этому шествию, сопровождаемому глазеющей толпой. Но в какое-то мгновение наступила тишина. Ближайшая женщина сунула шест с доской прямо ему в руки, колонна, как вихрем сдутая, рассыпалась между домами. Слышен был конский топот. Улица опустела. Федора же взяла оторопь. Так он и держал злосчастную фанеру, из-за которой чуть не лишился жизни. Возле Федора осталось еще человек шесть таких же, как он, чудаков, не понимающих, что происходит. - "А-а, сволочи!" - несколько казаков наскочило на этих людей и заработало плетьми. Древко выпало из его рук, как во сне он шел и всю дорогу корчился от нагаек. Пригнали их в Лукьяновку.
Нет смысла описывать, как его допрашивали, какие он принял мучения. Тюрьма и есть тюрьма, сделана, чтобы издеваться над человеком. Просидел он там почти полгода - и все из-за этого проклятого лозунга. Не верили ему - и все.
- Кому ты, негодяй, голову морочишь? Зачем нес лозунг, если не анархист?
Он им рассказывает все, как было, а они не верят и свое. И так день за днем. Но, в конце концов, то ли поверили, то ли надоел он им, его отпустили. Дали справку, что содержался в таком-то учреждении за связи с нарушителями общественного порядка, анархистами.
Но приключения его на этом не окончились. В тюрьме он слышал разные названия революционеров - анархисты, эсеры, большевики, меньшевики и что скоро они возьмут власть в свои руки и все будет народное. Получалось, что будет и твое-мое, и мое-мое. Значит, он не должен голодать и имеет право брать у всех и хлеб, и сало, и все прочее. Радуясь таким перспективам и всему, о чем толковали ему сидящие в тюрьме революционеры, главное он хорошо усвоил и не забыл.
В таких сладких мечтаниях он и шел по городу после выхода из Лукьяновки. Очнулся, когда увидел, что город кончился. Наконец-то увидел конец города. Здесь было почти как в его селе, только вместо хат стояли в тени деревьев опрятные кирпичные домики. Откуда ему было знать, что он попал в дачную местность и что эти домики называются дачами. Федор выбрал один из них, почему-то предполагая, что в нем сможет утолить голод. Постучал - тишина. Стучал еще и еще - не отзываются. Увидел со стороны сада открытое окно, решил окликнуть хозяев через него, вскарабкался на карниз фундамента, взглянул в саму комнату. У самого окна увидел столик, на котором лежала кобура, бинокль и продолговатый кожаный футлярчик. Напротив, под стенкой, стоял диван, над ним висит ковер, на ковре - шашка. Все тело и мысли его одеревенели. Ничего не думая и не соображая, побросал он за пазуху все, что увидел, соскользнул с карниза и, гонимый животным страхом, очутился в поле.
Как добрался он до своего села - это его дело. Заметим только, что трофеи свои, все три, он донес в сохранности. Дальнейшая их судьба изложена в следующих разделах.
"Кесарь".
В конце нашей улицы стояли две хатки, в той, чей огород лежал у поля, жила старая кривая женщина Ольга с сыном Саньком. В хате через улицу жил Чумак Семен с женою и двумя дочерьми. По всей длине огорода Чумаков располагалось хуторское кладбище. За кладбищем была балка, которая начиналась далеко в поле и шла под прямым углом к речке, возле реки расширялась в довольно большой квадрат. Эту площадку звали бережком. За балкой местность чуть возвышалась, метров на 15. От реки и далее на север до самого горизонта шел старый ров. Это была граница, за рвом шла земля других сел. Между балкой и рвом тянулась узкая полоса хуторской земли.
Балку не пахали, чтобы весенние и дождевые воды не размывали почву. Сколько бы ни паслось здесь скота, благодаря черной, исключительно плодородной почве - она зеленела густой зеленой травой. Как уже говорилось, от хутора и до Окопа шли полосы крестьянских наделов так, что в каждой полосе оказывался квадратик луга.
После обеда мама решила пойти прополоть свеклу возле самой балки. Мама шла впереди, а я сзади ехал на Машке. Она уже хорошо подросла, окрепла, и отец разрешил мне ездить на ней. Сначала во дворе, а потом и на пастбище. Ездить разрешал только шагом. Мама начала прополку, Машка пасется на нашем лужку, а я снимаю с вербовой ветки кору, чтобы сделать свисток.
- Мама, посмотрите, кто-то идет к нам.
Мама выпрямилась - с вершины балки к нам шел человек. Выше среднего роста, худощавое лицо. Из-под форменной фуражки с красной звездой торчат короткие белесые волосы. Нос острый, глаза маленькие, серые, бегающие по глазницам во все стороны, как у вора. На туловище блестящее кожаное пальто, перекрещенное поперек и в плечах ремнями. У левого бока на ремне болтается огромная деревянная кобура.
- А почему здесь пасется жеребенок? - спросил он, лишь бы завязать разговор.
- Наш жеребенок, наш бережок, оттого и пасется.
- Ах, да, эта балка входит в наделы.
Он подошел к Машке: "Ох, и красавица ты какая!" Машка подняла голову и посмотрела своими умными бархатными глазами на пришельца. И, как будто не увидев в нем ничего стоящего внимания, пренебрежительно повернулась к нему хвостом и принялась вновь пастись.
- Ишь, гордая, как хозяйка.
- Откуда видно, что хозяйка гордая?
Он подошел к маме и продолжал...
Во мне и сейчас клокочет жестокая злоба. Эту священную ненависть я унесу в могилу. Как он тогда оскорбил моего отца! Он предлагал маме встретиться с ним в укромном месте. Ведь твой, мол, уже старик, а я имею все: и шелка, и золотые кольца, и серьги, и деньги. Мама была ошеломлена такой дерзостью. Какое-то мгновение она стояла неподвижно, но когда он протянул свою грязную руку, оцепенение прошло, и она в каком-то бешенстве начала молотить его железной сапой по чему попало. Слава Богу, что не острием. От неожиданности он оказался в столбняке, только шатался от ударов. Потом, отскочив метра на два, схватился за кобуру. Но тут свистнула моя хлесткая лозина, и на его руке появился синий рубец. Вскинул от боли руку, на рубце выступила кровь.
- А-а, змееныш, беги пока цел... А ты, гордячка, меня еще вспомнишь...
Злоба душила его. Мама знала этого душегуба давно, как говорится, с прадедовских времен.
- Что, награбил шелка? Золотом разбрасываешься? Еще ведь двух лет не прошло, как тебя вши сжирали. Отец был вор-конокрад, и ты душегубом заделался, как ты смел позорить моего мужа, позорить честь семьи? Ты, ублюдок, знаешь, что у нас шестеро детей! Дорвался до власти, а разве власть уполномочила тебя разорять семьи?
Мама вдруг замолчала, а потом тихо сказала: "И кому я это говорю? У этих людей нет ни совести, ни сострадания, ни сожаления. Они переполнены жадностью, глупостью, насилием... "
Делая усилие, чтобы вымучить улыбку, он вроде признал негодным свое поведение и сказал примирительно:
- Ну, ладно, Ивановна, я пошутил, не будем сердиться, я не хотел тебя обидеть.
- Уходи,- ответила мама,- и знай, что я не сочла нужным осквернять свою сапу такой падалью, но впредь мне не попадайся.
Он что-то еще буркнул и побрел к реке, и дальше - к хутору.
В эту ночь я долго не мог уснуть. Произошедшее все время всплывало в голове отдельными картинами, сплетаясь в невообразимый кошмар. И этой ночью я невольно услышал разговор отца с матерью, содержание которого не мог тогда полностью понять своим детским умом, но каким-то чувством догадался, что случившееся между мамой и "Кесарем" очень озаботило отца. Мама винила себя, что не сдерживала себя, а он старался успокоить ее уверением, что она верно поступила, не давая пошляку, пользующемуся властью, осквернять семейные узы.
Спустя несколько дней Кесарь разговаривал на улице со своим "кормилой" Озей. Увидев приближающегося отца, который шел с работы, наспех простился со своим собеседником и пошел рядом с отцом.
- Ну, Иван Михайлович, Ваша жена со мной так "ласково" поговорила и даже сапой попотчевала, что трое суток не сплю. У Ози гусиного жира попросил, чтобы рубцы смазывать.
- Не может того быть, Семен Михайлович. Ведь она никогда ни детей не била, ни скотину руки не поднимала. Нет в ней сердитости. Лаской и добротой она добивается своей цели.
- Не верите, покажу. Спина моя недалеко.
- Да зачем же. Я Вам верю, только в толк не возьму, как могло это с ней случиться, всегда такой доброй, ласковой и рассудительной?
- Да я с ней пошутил, сказал, что она молодая, красивая и рождение шестерых детей не уменьшило ее красоты.
- Должно быть, она Вашу шутку истолковала как-то не в соответствии с Вашими намерениями сделать ей приятное похвалой.
- Да, наверное, что так оно и было. Она меня не поняла.
- Вы уж ей простите. Ведь шестеро детей. Ведь ей шестерых детей надо кормить. Сколько работы на ее плечах, так что, может, и в самом деле ей было не до шуток.
На этом разговор между отцом и Кесарем был окончен. Но разошлись они, каждый думая свое.
- Все же он не дурак, и осознал свою вину. Все это забудется,- думал отец.
- Но-но, ты, умник, дай срок, придет момент, я тебе покажу. Узнаете, с кем имеете дело, кем пренебрегаете,- черные мысли садиста вибрировали в нем, как бешеные волны при урагане.
Угрозу свою он исполнил позже.
Бинокль.
Взрослые тяжело работали, боролись с нуждой и разнообразными житейскими неурядицами. Мы же, дети, были пока что свободны от всего трудного, тяжелого и гнетущего. Стащил из материнской заначки (схованки) ломоть коржа или пирога - и на улицу. Там полно таких же сорванцов, мальчишек и девчонок. Липовые вожжи под руки, один вместо лошади, другой правит - и понеслась кавалькада в степь.
За огородами пригорок. Поле плавно опускается в ложбину, от ложбины так же плавно поднимается к горизонту. Белые полосы - это цветет гречиха. Желтые полосы - это подсолнух, мак. Полосы ячменя, овса, кукурузы. Сколько их, этих полос, квадратов... и у каждой свой цвет.
Витя, Ваня, Миша... словом все мальчики и девочки нашей улицы играли вместе, рядом с полями. Между полями узенькие границы, на которых растут тысячи разноцветных диких цветов. Девочки плетут из них венки, а мы деловито обходим целой бригадой наделы, проверяя, есть ли зерно на початках кукурузы, насколько подрос мак, как себя чувствуют кавуны, скоро ли выбирать "рыжей". Внезапно наша стайка снова берется за вожжи и мчится с поля через выгон к реке. Там можно ловить синих, красных, зеленых бабочек, рвать водяные цветы. День проходит, как в колдовской сказке. А там - только успеешь влезть на топчан - и оказываешься в объятиях Морфея. Утром усталым телом нельзя и пошевелить, но так только кажется. Постепенно расходишься и снова бегаешь, как и вчера.
Больше всего нас, малышей, развлекали разные бытовые сценки, главным героем которых был Федор Арсеньевич. Чаще всего в первую половину дня мы играли на улице возле облюбованного двора. Вдруг слышится топот конских копыт. Из-за пригорка показываются синие фуражки с желтыми звездочками и красными околышами. Мгновение, и фуражки вырастают в конных милиционеров. Их пять. Они бешено скачут по улице, топча копытами кусты полыни. Вскакивают во двор Федора Арсеньевича, на ходу прыгают с лошадей и окружают его "хату". Я взбираюсь на самую высокую развилку черешни, где ветки потоньше и приходится лавировать, чтобы не треснуло и не полететь вниз. Подо мной - Виктор и Иван. Другие облепили шелковицу. Со своих наблюдательных пунктов мы хорошо видим, что происходи г во дворе.
Лошади между полынью щиплют травку спорыш. Четыре милиционера встали по углам с револьверами в руках. Пятый же с револьвером наизготове заходит внутрь помещения. Спустя несколько минут оттуда выводят Ганну и Федю младшего - нашего одногодка. Все бросают свои углы и допрашивают: "Где муж, был ли он дома или не было? Когда был, где может быть в настоящее время?" В ответ слышат какое-то клокотание. Они переспрашивают один другого: "Что она говорит?", пожимают плечами, ругаются, снова спрашивают и снова, не разобрав, ругаются, грозят оружием. Поняв, что разобрать ее речь они не в состоянии, приступают к Феде. Но он склонил голову чуть набок и вниз, и ни угрозы наганом, ни тумаки и обманы не выводят эго из неподвижности. Ни одного слова, даже звука. Яростные плевки и матерщина вновь. Потом они бросают это бесполезное занятие и рыщут по бурьянам в огороде. А нам, с деревьев, все видно.
Да, когда чекисты въехали во двор, он отдыхал на топчане. Но чутье у него было волчье. Увидев в окно милицию, он упал под топчан, отодвинул несколько вязанок полыни, а там - ход в огород. Все здесь заросло полынью, так что догадаться о существующей дыре невозможно. Десятки раз милиционеры ходили возле этого хода, и ни один из них не заметил его. Он был низкий, юркий. На карачках, бурьянами, по огородам пробирался к Кривой Ольге, через улицу - в огород Чумаков, перескакивал через речку и окопом - к лесу. Между хутором и лесом он ложился на окоп и в тот бинокль, за которым и охотилась милиция, спокойно наблюдал, что делается в его дворе.
Такие сцены за лето повторялись много раз, что нам, малышам, доставляло немало удовольствия.
В то время у нас в стране оптику еще не вырабатывали, и все оптические приборы - очки, микроскопы, лупы, бинокли - покупали очень дорого за границей. А бинокли, как и оружие, являлось военным имуществом и без специального разрешения соответствующих органов частные лица иметь их не .мели права.
И вот милиция уехала, когда солнце низко повисло над лесом. Голуб видел, как кавалькада его преследователей выбралась со двора и уехала по направлению к центру хутора. Тогда и он спустился к реке, огородами вернулся домой, бинокль положил в тайник, ощупал алмазный стеклорез, который всегда висел у него под рубашкой вместо креста на шее, заложил руки за спину и пошел вслед за уехавшей милицией.
Это у него начинался вечерний обход хуторских вдов. Где-то поболтает и идет дальше. Но когда попадал на ужинавшую семью, то садился, как опоздавший член, а насытившись, шел на ночлег. Но бывало, и довольно часто, что на ужин он нигде не попадал, даже обойдя почти все точки, где вероятность поужинать была самая малая. Тогда, не возмущаясь неудачей, он, так же с руками за спиной, гудя, как всегда, мотив грустной мелодии, возвращался домой. Анна и Федя в это время лежали на печке в полудреме. Федор Арсеньевич отпирал свой сундучок, вынимал чугунок. Съедал несколько картофелин в мундирах, водворял чугунок снова в сундучок и запирал его.
Летом он не спал в помещении, кроме как в дождливую погоду. Брал свой универсальный кожух и выходил во двор. Постелью для него служили кучи сухой полыни. Хоть горьковато, зато блохи не жрут. Ночью спал он недолго. При первом пробуждении брал из тайника бинокли и, лежа, наблюдал за небесными светилами. Со своего астроцентра он слышал, когда мой отец начинал работу по хозяйству, прикидывал, когда он справится с работой во дворе и пойдет завтракать. Он почти никогда в этих расчетах не ошибался и попадал на завтрак в самом начале. Позавтракав, он сообщал отцу свои умозаключения о небесной жизни таинственных светил. И хотя отцу, правду говоря, эти "космические лекции" изрядно надоели, он продолжал свои утренние посещения. Солнце начинало палить. Тогда Федор Арсеньевич приходил домой и ложился на топчан (днем он спал в помещении от назойливых мух). Под вечер делал свой вечерний обход.
Пасека. Главная отцовская отрада - радовать детей.
С горечью смотрел отец на пустующие ульи, что стояли у него под навесом, только занимая место. Многие мужчины не имели и понятия о пчелах и меде. Но зная, что у нас есть ульи, спрашивали, где можно достать пчел. Отец искал, где только можно - но нигде пчел не было. Но ведь "кто ищет, тот всегда найдет".
Однажды вечером к отцу пришел Степан Шлявский и сказал, что знает липу в лесу, в дупле которой живут пчелы. С лесником он договорился, можно спилить этот сухостой (После смерти В.А. лесником стал человек с другого участка). А Степан на всю округу был единственный охотник. Почему именно ему разрешили иметь ружье, никто не знал. Но по характеру это был человек мягкий и общительный, прирожденный природолюб. Трофеями его иногда становились лисы, зайцы, барсуки. Все свободное время он бродил по лесным балкам, знал жилища всех зверей в нашей местности.
Утром, осмотрев дерево и окрестность, они решили закрыть дупло железной решеткой, спилить липу, а потом отпилить чурбан с пчелами. Так и сделали. Дома отец, расколов чурбан, вытряхнул пчел с сотами в улей. Леток был закрыт сеткой, а на дне улья лежала мокрая чистая тряпка. Открыв отдушины, он поместил улей в темный прохладный сарай, где тот простоял трое суток. Потом улей вынесли и установили в вишневом садике возле хаты. Соты отец прикрепил к рамкам
Полосы, заросшие разнообразными цветами, границы между наделами и сами наделы с их обилием разнообразных культур давали пчелам сильный постоянный взяток. Семья сильно развивалась, и в период роения дала два больших роя. На зимовку после первого лета отец поставил уже три семьи. На третий год все восемь ульев были заселены. Теперь у нас имелось десять пчелиных семей (два улья были двухсемейные).
Каждые две недели отцу приходилось откачивать мед. Но иногда за это время пчелы так залепляли сотами крышки ульев и заносили их медом, что одному человеку нельзя было их и поднять. Тогда на помощь отцу приходил Кондрат. Когда отец откачивал мед, то вся посуда шла в ход. Деревянное корыто, макитра, в которой месили хлеб, горшки, глечики, миски - все было занято медом. Все хуторские хозяйки, кто с чашкой, кто с глечиком и горшком, шли во двор к нам. Мама всем отмеряла, в зависимости от количества членов семьи, сколько надо черпаков. Не за деньги, а от щедрости сердца. Раздача меда прекращалась только когда посуда опорожнялась, но нам, детям, хватало скрести мед до следующей откачки.
В первую десятидневку лета, когда был главный взяток, при откачке меда сам собой возник медовый праздник. На него сходились все жители хутора. Каждый мужчина нес с собой водку, женщины - закуску, кто что мог приготовить. Весь двор застилался ряднами, расставляли посуду с закуской, водкой и начинался пир. Такой праздник происходил в праздничный или воскресный день, так что гуляли весело и беззаботно. Насытившись, устраивали разные развлечения, кто как мог выдумать. Венчался праздник "ублажением Матки". Пчелиной Маткой обычно делали Федора Арсеньевича. Он вообще присутствовали на всех свадьбах, крестинах, религиозных праздниках, просто попойках - в роли шута, и женщины проделывали с ним немыслимые фокусы. Так вот, когда его делали Пчелиной Маткой, то раздевали до трусов. Лысину, волосатую грудь, спину, короче, всего обильно смазывали медом, подводили к ульям и дразнили пчел. Разъяренные труженицы, чуя мед, черной тучей носились вокруг жертвы, облепляя сплошным черным шаром. Спасение было только одно - вода. До копанки на берегу напротив Кондратова огорода - метров двести - Федор Арсеньевич как будто колесом катился в черной туче пчел и со всего разбега плюхался в воду. Там переворачивался на спину и сквозь небольшой слой воды наблюдал бешеную пляску пчел. Они большим столбом висели над копанкой.
Все эти процедуры над Федором Арсеньевичем устраивали женщины. Мужики же только гоготали, держась за бока или катаясь по траве. Главной же зачинщицей таких потех была Проська Ковтунка, мать моего друга Ивана, здоровая и сильная женщина. Такое развязное ее поведение с Федором Арсеньевичем объяснялось тем, что он был ее любовником. Никита - муж Проськи - маленький, тощий, выработанный мужик, совсем не реагировал на связь жены с деревенским "дармоедом", как он называл Федора Арсеньевича в глаза и на людях. Девять ртов держались на узких сухих плечах Никиты. С утра до захода махал он в кузнице молотом - какая уж там ревность? А Проська погулять, поартачиться была мастерица, что же касается работы - то лишь для видимости. Она слишком хорошо знала присказку: "От работы кони дохнут"...
Пока Федор Арсеньевич киснет в копанке, к ней движется толпа мужчин и женщин кондратовым огородом. Пчелы улетели, но некоторые, сделав большой круг, снова возвращаются на запах меда. Впереди всех Проська - с собачьим мылом, штанами и рубахой Федора Арсеньевича. За ней вдовы, между прочим, все ухажерки Федора Арсеньевича, с разными банными атрибутами: скребками, березовым веником, лейкой и т.д. Потом тянется и остальная компания зрителей. Кто-нибудь из мужчин срезал вербовую жердь, чтобы была с крюком. Этой жердью они захватывали Федора Арсеньевича за шею, или он сам брался за крюк рукою, вытягивали из копанки и вели к реке. Там, на кладке, начинялся процесс омовения, снимали с него трусы, а потом одни женщины стирали его одежду, натирая собачьим мылом (собачье мыло - это трава, дающая при растирании в воде обильную пену, как настоящее мыло). Другие женщины натирали и скребли Федора Арсеньевича. Он спокойно сносил все их проделки, которые при этом вытворяли над ним бесстыжие женщины. Мужики докладывали и хохотали во все горло. Часть мужчин ломала сухие сучья ив - после стирки нужно было развести костер для просушки клиента и его одежды.
Солнце уже зашло за ивы, становится прохладно. К тому же возле речки ночами обитают полчища комаров. После просушки клиента и его лохмотьев, женщины церемониально одевали его, венчали вербовым веником и всей гурьбой возвращались во двор. Все допивали, доедали и уже при луне расходились по домам.
Седым калекой я как-то навестил колыбель своего детства. Многих, с кем проходило мое детство, я уже не увидел. Пожилыми людьми стали даже те, кто родился после моего выезда с хутора. К счастью, была жива еще Проська, та самая, мать моего товарища детства Ивана. И как же старость преобразует человека! Из высокой полной женщины она стала низенькой и худой, в половину своего прежнего роста. Память ее тоже ослабла. Мы долго с ней говорили, вспоминала она трудно, только урывками. Я спросил ее, зачем они, женщины, так издевались над Голубом Федором Арсеньевичем, когда в воспоминаниях дошли и до его личности.
"Ничего ты тогда не понимал",- сказала мне Проська,- "не издевались мы, а наоборот, делали ему добро. Ведь он никогда не стирал свои лохмотья и не мылся. Вот мы, вроде шутя, чтобы не обижался, стирали его одежду и мыли его самого, хоть один-два раза в году".
И только тогда до меня дошло: кажущаяся жестокость была человеческой мудростью.
В преддверии перемен.
Жизнь в хуторе улучшалась. Люди обзаводились скотиной. Кто держал коз, некоторые - овец, изредка - свиней, а еще меньше - коров. Лошадьми обзавестись мечтал каждый двор. Обработать землю - это самое главное. Лошади были дороги, и не всякому под силу было купить ее. Корову иметь тоже было заманчиво, ведь корова - кормилица. Но о ней можно было только мечтать. Мечтала о ней и наша семья.
И вот появился 8-месячный жеребчик. Мать его Машка была низкой плотной лошадью, а малышом же любовались все, кто его видел. Высокий, ножки тонкие, черный, как смоль, только грива - рыжая, золотая. Ноги по колена - в белых чулках. Гордый своею красотою, шею держал дугой, а голову клонил на бочок. Мужики говорили, что пахать на нем нельзя, он годен только в упряжку или под седло. Много приходило покупателей. Но был он "сосватан" в двухмесячном возрасте за телку Савки К. Отец приготовил для нее место в сарае, чтобы стояла отдельно от лошади.
В воскресенье состоялся обмен. Так появилась у нас бурка-телка, уже спарованная, так что через семь месяцев она станет коровой.
А нашему золотогривому и впрямь не пришлось пахать. Вскоре после нашей сделки была выводка лошадей. Комиссия определила, что этот конь должен служить в Красной Армии - Р.К.К.А. Выплатили за него что-нибудь или нет - неизвестно. Но Савка из-за этого помешался и стал невменяемым.
Я еще в самостоятельных пастухах не состоял, но при старших находился всегда. Солнце подымается здоровенным красным кругом. По улице движется разношерстное стадо: здесь и свиньи, и овцы, и козы, коровы, телки, телята. Но ни драк, ни междоусобиц. Вся скотина привыкла вместе идти на пастбище и вместе пастись. Часто можно видеть, когда скотина насытится, что корова лижет козу, а свинья прилегла возле коровы с таким расчетом, чтобы та хвостом отгоняла мух и от нее.
Сзади стада в окрашенной солнцем коричневой пыли шел гурт пастухов - может, побольше скотского стада. Здесь и пастухи, и так, со двора могло быть и трое, и четверо мальчиков и девочек - и постарше, и самые маленькие, только что научившиеся ходить. Особого труда пастушество не составляло, толоки (непаханые участки) были обширны - бурьяна много. Основным занятием босоногой оборванной детворы было добывание пищи. Более всего съедобной была "бучила". Надышавшись ее запахом, некоторые дети падали в обморок, а потом страдали головными болями и рвотой. Потом были съедобны лопуцьки, молочай. Во всех этих бурьянах ели неотвердевшие стебли, очищая с них верхнюю корку, которая легко счищалась с молодых стеблей. Корни дикой моркови, щавель конский, дикий и иные растения. Настоящий праздник детвора чувствовала, когда в колосках пшеницы или ржи появлялись крупинки зерен. Колоски выламывали, и эти крупинки были большим лакомством. Конечно, чем больше становились зерна в колосках, тем меньше тратили их для утоления голода.
Голод- он преследовал все наше поколение до самой Отечественной, то усиливаясь и губя беспощадно огромные массы людей, то чуточку попуская, но вволю наесться хлеба случалось очень редко. Я, конечно, говорю об основной массе, но были и в то время такие, которые сумели подольститься к власти и людские бедствия использовать для своего благополучия. Таких было тогда еще немного, но от их коварства, жадности и подлости страдала и обрекалась на голодную смерть большая масса народа.
Сами они жрали и пили. Остальные же голодали. Голодовали все, но тяжелее всего нехватка продуктов сказывалась на семьях и вдовах, имеющих много детей. Уже несколько лет крестьянин, обмолотив хлеб, отдавал государственный побор, но какая-то доля в виде последа оставалась и для семьи. Но с каждым годом поборы становились все тяжелее. Троепольная система неофициально стала считаться однопольной. Для выполнения сдачи хлеба, которым облагался двор, крестьяне стали засевать все свои три надела рожью и пшеницей, не чередуя их толокой (паром) и огородиной. Лошадей было мало, потому сеяли и обрабатывали землю кое-как. Поля стали зарастать сорняками. Порой было трудно разобрать, что посеяно. В поле редко между бурьяном торчал стебель ржи или пшеницы. Урожаи упали до того, что иногда крестьянин меньше намолачивал, чем сажал. Многие комбедовцы вообще не обрабатывали принадлежащей им земли в ожидании колхозного рая, байки о котором уже сплетали в сознании лодырей и паразитов образ фантастического благополучия. За них сдавать зерно должны были другие. В таких условиях не выполнялась сдача зерна. Понукаемые за это сверху, местные органы власти всемерно активизировали свою "боевитость" (словечко-то какое подобрано было нашей самой гуманной и демократичной... ). К этому особо понукать их и не требовалось. Они сами быстро поняли вкус безграничной власти над своими собратьями, и сами по себе зверели.
Усилились репрессии.
Не выполнил поставку хлеба, припоминают: брат его был у Петлюры только 6 дней и не по своей воле - все равно: саботажник! Другой имел царскую награду, Георгиевский крест, да и всякая чепуха могла быть вменена в вину, цеплялся новый "ярлык" с неизбежными последствиями - в отдаленные края, в тюремный закоулок или же вообще в яму на вечный покой. Там уже играла роль прихоть работников ГПУ (ЧК).
За любое, даже кажущееся ослабление нажима на людей со стороны местных властей, их самих арестовывали, сажали в КПЗ, приписывая "пособничество чуждым элементам". Курсантов держали на учебном пайке. Учебный паек отличался от обычного тюремного тем, что его применяли в течение 5-7 суток, а состоял он из поллитра воды на одни сутки и больше ничего. На другие сутки давалась голова или хвост ржавой селедки и тоже больше ничего. В назидание каждому набору этих своеобразных курсантов, одного-двух расстреливали (за какие-либо провинности). После выучки в группе каждый курсант ставил свою подпись под обязательством беспощадно уничтожать всех мастей вредителей советской власти, как бы они ни маскировались, выискивать их в любой щели, бдительно хранить государственную тайну. Вот после такой натаски и отпускали их на людей.
Людьми овладел голод и страх, ужасный страх. Ведь брали людей - как в преисподнюю, откуда ни слуху, ни духу. А над женами и детьми угнанного измывались.
Репрессии происходили методически, все усиливаясь. Усиливался и страх. Каждый ждал своей очереди, видя, что берут таких же, как и он, не имеющих никакой вины перед властью. Власть на кары на местах ничем не ограничивалась. Решила ячейка комбедовцев - и все тут, ни пожаловаться некуда, ни прав искать негде. Вопросы решались следующим образом. Из района присылали уполномоченного. Собирали местный актив, и уполномоченный сообщал, что нужно арестовать двоих. Решали соответственно. Выступал председатель или уполномоченный:
- Товарищи! Как вы знаете, чтобы построить наше светлое, самое справедливое, самое гуманное коммунистическое общество, мы должны уничтожить классовых и всяких врагов нашей родной власти... и т.д. и т.п. - все в таком духе. Далее... Надеюсь, что вы - представители ее на местах, хорошо знаете, кто чем дышит, что вы имеете неусыпную бдительность. Потому прошу подавать предложения.
Вот руку подымает Демич:
- Думаю, надо взять Булыгу. Он как-то вспомнил мои старые грешки и обозвал меня вором.
- Но это, знаете, не повод для ареста - резюмирует уполномоченный ГПУ. Тогда подает голос Марчук, председатель комбеда и сельсовета:
- На мой взгляд, в данном случае акт можно сформулировать так: "Выступает против советской власти, оскорбляя местных ее представителей различными оппортунистическими методами".
- Вот это другой табак,- потирает руки уполномоченный,- пойдемте дальше. Нужно еще одного.
И вот Шванка, осмелев и видя, что, подобно Демичу, можно потребовать уничтожения и своего личного врага:
- Берите тогда Бойка Степана. Я просил у него пять фунтов муки, а он не дал, ссылаясь, что, мол, свои дети голодные, я сам видел, как его хлопец жрал большой ломоть коржа.
- Что же ты ее смог осилить пацана, и не отнял у него этот ломоть? - бросил реплику Гливняк. Несколько заседавших заржали.
- Перестаньте, товарищи! Время идет, а мне еще нужно сопроводить арестованных в район. Нам сегодня надо оформить двух человек. Кто там у вас еще, думайте быстрее. Только улики должны быть посерьезнее.
- Улики серьезные, только их нужно правильно сформулировать,- снова подает голос Марчук.
- То есть как? - интересуется оперуполномоченный.
- Ну, буржуазные повадки, враждебное отношение к коллективизму. Укрытие и саботаж сдачи зерна.
- Сойдет! Хорошо сформулировано, и улик вполне достаточно. А если их обыскать, то найдется что-нибудь для подкрепления улик?
- Окромя стада вшей, ничего не сыщешь ни у одного, ни у другого.
- Ладно, тогда пошлите посыльного, пусть скажет, что вызывают в сельсовет. Под расписку и чтобы немедленно были здесь. А я тем временем оформлю акты.
- А может, сначала подкрепиться? Озя знает, что такое - районный гость, и потому, бьюсь об заклад, к выпивке у него уже запекается в печи гуска.
- Нет, к нам из области приехали, что-то в бумагах роются. Даже неизвестно, по какому поводу приехали, но видно, что шишка важная. Так что совсем некогда, но гуся и перегончик (самогон?) я могу и с собой захватить.
Председатель немного побледнел, поднялся и, кивнув пальцем Демченко Ф., вышел в сени. Там шепотом приказал комбедовцу: "Беги к Озе, возьми бутылку "перегона" и гуся. Если нет зажаренного, пусть отрубит голову при тебе живому и сразу тащи сюда. Черт с ним, дома сам зажарит. Вот тебе двадцать минут, или голова долой". Побежал Демченко, как хорь, учуяв добычу.
Вот акты на аресты оформлены и подписаны "свидетелями". Пришли вызванные Булыга и Бойко. Оперуполномоченный для соблюдения правил церемониала зачитал им акт об аресте и предложил арестованным расписаться. Те, конечно, ошеломлены. Души их враз застыли, тела окаменели, но никакого протеста, ни малейшей человеческой воли. Молча поставили подписи, зная, что ни протестами, ни просьбами им не вырваться из кровавых рук садистов.
Со всем оформлением покончено, гусь и самогон в повозке. Лошади, подгоняемые хлыстом ездового, жарко дышат в затылки арестованных, норовят острыми шипами подков оттоптать им пятки. Человек в кожанке, вооруженный большущим барабанным наганом, развалясь на сене в повозке, торопит:
- Быстрее, погоняй, погоняй!
И кучер хлещет лошадей хлыстом. Те напирают на двух несчастных, которые бегут, стараясь убежать от боли, причиняемой им подкованными копытами. Бегут к физической и душевной боли, которая с этих пор не оставит их до конца дней. Так просто и быстро решалась судьба миллионов людей в период становления самой-самой...
Бытовые трагедии.
С трагедиями, творимыми беззаконием властей, сплетались бытовые трагедии, как будто соревнуясь с первыми в жестокости и несуразности. Взрослые и дети, особенно те, кому приходилось быть в поле (работать на прополке или пасти скотину) пребывали в постоянном страхе - по степи бегала какая-то Варка с ножом и резала зазевавшихся. И это не было пустыми слухами. На небольшой поляне, где мы пасли скот, в одно росистое утро мы нашли мертвую женщину. Она лежала, чуть вкопанная в землю, так что лицо и грудь были вровень с краями ямы. Мы приподняли гнилой лоскут материи, прикрывавший ее тело. Мертвой было примерно 30-35 лет, очень худая, в темных волосах серебрилась редкая седина. Роговицы глаз уже съели полчища муравьев, копошившихся на ее теле.
Конечно, вечером пастухи рассказали об этом своим дома. Но сообщение это взрослые приняли равнодушно. Было ли им дело до какой-то неизвестной мертвой, когда живых брали и отправляли куда-то, как в преисподнюю, откуда ни слуха, ни духа?! Конечно, люди знали, сколько забрали ни в чем не провинившихся людей, даже тех, кто помогал властям. Люди не радовались прекрасному лету, солнцу, зелени, потому что в душах их царствовал великий страх, как беспросветный мрак, боль и мука в настоящем и неведомое беспросветье в будущем.
Так никто и не взял на себя труд закопать хотя бы на полметра ту женщину. Мы пасли, а рядом разлагался труп. Оставшиеся кости каким-то образом стали разноситься по лесу. Под молодыми дубками в крапиве белеет череп, поодаль - плечевая лопатка, еще дальше, под старым полузасохшим грибом - тазовые кости, в другом - бедренные, ребра и т.д. К осени и костей не стало... звери какие растащили, или земля постепенно поглотила, никому не известно.
Чуть позже этим летом произошло еще одно драматическое событие. Власть, чтобы обеспечить свой покой, оградить себя от всяких случайностей, строго-настрого приказала населению сдать всякое оружие. За хранение оружия - высшая мера. Народу же оно так осточертело, что мало кто и желал иметь у себя оружие. Если же кому-то все же вздумалось припрятать что-нибудь, то после приказа и показательных казней пришлось его так запрятать, что и сам не нашел бы. Сдавать, конечно, боялись, потому что сразу спросили бы - почему не сдал вовремя? Дробовик тоже считался оружием, как и винтовка, обрез или наган.
Но все же один хуторянин Степан Шлявский легально пользовался дробовиком. Кто ему дал на него разрешение, и за какие заслуги, неизвестно. В нашей местности полосы леса то расширяются до 3-5 км, то сужаются до полукилометра, а то и вовсе прерываются степью. Начинается лесная полоса где-то на западе и тянется на восток. Так что крупным зверям особенно разгуляться у нас негде. Больше всего было зайцев. Иногда видели лису. Дикие козы были большой редкостью, и видеть их приходилось только случайно.
Лес находился на меже с нашими хуторскими полями. В нем различали два леса: Чупын и Черный лес. Оба эти лесных участка располагались друг от друга не более, чем в ста метрах, и площадью были каждый около 10 га. Из деревьев там росли граб, изредка попадался ясень и клен. Далее шло поле шириной в двести метров, и снова начинался лес, так называемый "зелено-дубравский". Это же название имело и небольшое сельцо под самим лесом.
Стоит лес, тянется, то расширяясь, то сужаясь, на восток, и где его конец, никому не известно. Под молодым подлеском с толщиной стволов до двадцати сантиметров господствовали крупные грабы, ясени, клены, липы. Росли, хотя и не густо, крупные дубы, давили своею мощной кроной молодую поросль. Были участки молодых посаженных дубков - ровными рядами и сформированной кроной. Рядом еще одна молодая посадка дуба, но не расчищенная. Молодые деревья густо сплелись ветвями. Под ними сплошные заросли крапивы и других бурьянов. Непроходимая чаща.
В таких чащах Степан Шлявский нашел барсучью нору, в которой жила барсучиха с шестью барсучатами. Мы - пастухи, часто бывая в лесу, иногда видели барсуков. Увидев же барсучиху с выводком, мы поскорее убежали. Правда или нет, но взрослые пугали нас, что барсучиха с выводком очень опасна. Защищая своих детей, она, мол, нападает первая и может смертельно ранить, распоров человеку живот. Вот почему мы, мальчики и девочки, увидев барсука, в большом страхе убегали как можно дальше от этого зверя.
Запретов тогда на охоту не было, да и охотников не было. Говорили просто: Шлявский убил лису или зайца. Ранней осенью, когда барсучата по росту и внешности уже почти не отличались от своей мамаши, Шлявский решил добыть барсучьего мяса и шкурок, чтобы сшить себе теплый жилет. Барсук зверь осторожный, чуткий, и только какие-то особые обстоятельства или условия могут заставить его выйти из норы. Кормится он только ночью. Шлявский наметил заранее несколько точек засады в зависимости от ветра. Пришел в лес, когда еще солнце висело над лесом в три высоты деревьев. Даже в густой тени стоял удушливый пар. Тишина, не колышется ни стебелек, ни листик.
Он закурил. Дым от сигареты еле заметно двигался в сторону висящего над деревьями солнца. Он осторожно занял место так, чтобы ветерок тянул от норы в его сторону. Лежал он тихо, наведя ствол дробовика на барсучью нору. Расслабленное тело нежилось в приятной прохладе, идущей от земли. Сразу появилась дремота.
И вдруг рядом, в дубовой посадке, раздался протяжный человеческий вой. Вой этот выражал ужас, призыв, надежду, что кто-нибудь услышит и пойдет на помощь: "А-а-а-а-а-а, -а-а-а-а-а... " перекатывалось (эхом) по всему лесу, усиливая ужас этих воплей. Страх молнией прошел во все естество Шлявского. Все тело с пяток до волос на голове задрожало мелкой болезненной дрожью. Неведомая пружина подбросила его и подняла на ноги. Он выбежал из зарослей и увидел страшную картину: между двумя рядами дубков бежали двое мужчин. Оба молодые, лет по 25. Оба высокого роста, в костюмах фабричного пошива (местные ходили в одежде из домашнего полотна), значит, из города. Один из них убегал, а другой не отставал и наносил удары переднему в затылок. При каждом ударе ножа передний рукой хватался за затылок, инстинктивно стараясь хоть чем-нибудь закрыться от ударов, другой же рукой хватался за ствол дерева, чтобы не упасть. И при каждом ножевом ударе у первого вырывался крик ужаса и безысходности. Вместо того, чтобы выстрелить и спугнуть бандита, хотя бы ранить в ногу и тем, может, спасти человека и раскрыть преступление, Шлявский уронил свое оружие и, гонимый звериным страхом, побежал из леса.
А недалеко от леса десятка полтора женщин, все с нашей улицы, в том числе и мама, пропалывали свеклу. Полоть было уже трудно, нужно было буквально рубить бурьян, оставив невредимой ботву. Солнце уже село на верхушки деревьев, скоро оно зайдет за лес и станет темно. Гоны еще длинные, и женщины спешили дойти их до конца до наступления темноты. И вот они услышали раскатистый крик в лесу, много раз повторяющийся.
- Наверное, пастухи гонят скот домой, и перекликаются меж собой.
- Нет, сегодня они пасут под хутором на лужку.
- Значит, кто-то собирает дрова и передразнивает луну...
- Глядите, глядите, какой-то мужчина во всю прыть бежит из леса по свекле и не смотрит под ноги!
Вот бежавший приблизился и женщины почти разом узнали: это Степан Шлявский, значит, что-то случилось! Не добежав до них несколько шагов, Шлявский упал на ботву. Белое, как мел, лицо было безжизненно. Женщины остатками воды из тыкв и глечиков поливали на лицо. Немного спустя, он пришел в чувство и несвязно рассказал, что случилось.
До утра все в хуторе знали, что в дубравском лесу совершено злодеяние. Первыми место происшествия, как и всегда, исследовала детвора. Телефона в хуторе не было, поэтому прошло время, пока кто-то пошел в село и позвонил в район. Там собрались и приехали на место происшествия уже в полдень. Милиция в первую очередь отогнала любопытных. Потом они что-то мерили лентой, рассматривали в круглые стекла.
Бандюга действовал хладнокровно, должно быть, не в первый раз. Убив, он нагреб сухого листья с мелкими сучьями, уложил свою жертву на эту постель, сверху покрыл тем же и подпалил. Труп обуглился полностью, сгорели нос, губы, кисти рук, уши, мужские органы. Но все же под трупом сохранились лоскут материи до пяти квадратных сантиметров и уголки довольно толстой пачки денег. На стволах дубков темнели кровяные отпечатки кистей рук. Эти печати убегавший поставил на 15-ти стволах деревьев на протяжении 47 метров. Труп куда-то увезли, народ разошелся по своим делам, гадая: кто убийца? Но кого убили - так и осталось тайной на долгие годы.
Санька Яровая.
Санька Яровиха, моя соседка, была самая красивая девушка в хуторе (она была ровесницей и подругой моей старшей сестры Нины). Длинная черная коса, черные брови, глаза, окруженные черной поволокой, лицо классической формы, белое, как мрамор. При улыбке обнажались небольшие, белые, как слоновая кость, зубы. Ей было четырнадцать с половиной лет. На нашей улице до десятка девушек и шестеро ребят, одногодков с Санькой. Как старшие, они собирались вместе на улице, пели, танцевали под "нашу музыку". Я говорю так потому, что, хотя мы были годков на семь младше, но имели: я - балалайку, Федор - мандолину, и вечерами играли разные польки, краковяки, баламуты. А больше никакой музыки на хуторе не было. И потому вечерами слушать и танцевать под нашу музыку собиралась не только детвора, парубки и девчата, но часто и пожилые женщины и мужчины.
Тихие украинские ночи, спящие деревья, в густых тенях которых прячутся всякие сказочные чудовища, рождаемые воображением, но существующие, как живые. Нет, в такую ночь не уснешь. Она тянет на улицу магической своей прелестью.
Но уже два вечера не выходит на улицу Санька. Без нее как-то скучно, чего-то не хватает. Не было на улице и ее младшего брата Никиты. Но его отсутствие менее заметно. До старшего гурта он немного не дорос, а для моей команды был слишком большой. Интересы моих сверстников с его интересами не совпадали. Потому он держался обособленно, не примкнув ни к одной группе ребят.
Набегавшись и наигравшись до упаду, уже во второй половине ночи, расходились мы по домам. Нина и Женя просыпались утром почти вместе с папой и мамой, чтобы помогать им работать. А мы с Марусей спали до тех пор, пока не пробуждались от голода. В это время мама уже успевала истопить печь и приготовить завтрак. Окончив с утренней работой, семья садилась завтракать.
Но сегодня я проснулся, и не увидел хлопочущей у печи мамы. Не было слышно и дразнящего запаха свежеиспеченных коржей. Не было даже жара от печки. В хате не было никого, кроме меня и Маруси, которая еще спала. Я надел на себя свою единственную одежду - полотняную рубашку, доходившую до колен (она заменяла мне штаны), и выбежал во двор. Отец, видно, уже уехал на работу, воза во дворе не было. На улице же слышался гул множества мужских и женских голосов. Я выбежал на улицу и увидел - во дворе Яровихи полно народа. Старые и молодые - весь хутор был здесь. Я не понял, что случилось, но все чаще слышал слово: "Повесилась, повесилась!" Это слово ходило по всему двору.
Одни люди отходили от сарая, другие проталкивались к нему. Я тоже прошел к сараю. Дверь была открыта. На поясе, прицепленном к балке, висела Санька. Она казалась неестественно длинной. Босые ноги кончиками пальцев почти касались земляного пола. Праздничная юбка и кофта как-то плотно обтянули тело, и оно казалось тоньше, чем на самом деле. Вытянувшаяся шея надломлена в месте петли, лицо чуть повернуло в сторону и вниз. Глаза закрыты, губы чуть раздвинуты и нижняя челюсть чуть опущена.
Красюк, сельский председатель, запретил снимать труп, пока не приедет следователь. Висела Санька до полудня, но никто из района не приехал. Женщины начали возмущаться, и труп сняли и уложили на лавку. Только поздним вечером явились два человека с портфелями подмышкой. Осмотрели, заактировали и уехали восвояси.
Похороны были не сложны: выкопали яму, вырыли подкопчик, туда сунули голову, чтобы, когда забрасывать землей, ее комья не били в лицо покойницы. Забросали землей и разошлись. Так хоронили всех покойников, досок не было.
Никита быстро смирился с потерей сестры, как будто ему и горя мало. Старая Яровиха тоже часто забывала о своем горе и только иногда спохватывалась, что ей следует горевать, и принимала соответствующее выражение лица. Но каждому было понятно, что она не горюет, а чего-то боится. Всегда в ее глазах прятался страх.
Разные слухи ходили между людьми после этого события. Между прочим, и такие: "Санька вовсе не повесилась, а ее задавили, а потом подвесили. Ведь у висельников глаза открыты и вываливается язык. А у Саньки глаза закрыты и язык не вывалился".
Убитый и сожженный в лесу человек и повешение Саньки были на деле звеньями одного и того же злодеяния, почему я и описал их рядом. Но тайна этого и других преступлений откроется людям только после войны, и я сообщу о ней по ходу рассказа.
Коллективизация.
Никогда в истории мира ни одна цивилизация не была в таком сложном состоянии, в каком оказались после Октябрьской революции народы России. В человеческой истории бывали страшные жестокости, например, рабство. Но оно как-то оправдывалось слабой культурой, низким уровнем развития. Человек еще сохранял многое от зверя, наподобие того пса, который схватит кость и рычит, не подпуская своих соплеменников к пиршеству, готовый их грызть. Были огромные империи - вы их знаете. Правители империй проглатывали все новые и новые территории, потом все это распадалось, а жертвы жестокостей уходили в могилы вместе со своими хозяевами. Вылив море человеческой крови, ввергнув народы в неописуемые бедствия, они уходили тоже, и все их величие пожирали черви.
Но все прошлые катаклизмы ушедших цивилизаций не сравнить с уничтожением человека в семнадцатом и следующими за ним годами. Обманув народы, обещая, что земля достанется тем, кто ее обрабатывает, а заводы и фабрики - рабочим, вожди заманили народ в мышеловку.
В первые годы, действительно, дали людям небольшие наделы земли. Но безземельные крестьяне, получив землю, испробовав и поняв, что обрабатывать ее тяжело, и что для получения хлеба надо, как говорится, семь потов пролить, не стали обрабатывать свои наделы. На этих наделах рос осот, пырей, полынь, сами же хозяева этих наделов блуждали по селу в поисках случая пожрать на дармовщину и в ожидании земного рая, т.е. пришествия коммунизма. Это был результат заагитированности. Агитаторы обещали, что при коммунизме люди работать не будут, работать будут машины, и даже вареники будут в рот подавать машины - ты только разжуй и глотай, так зачем же работать, лучше подождать, и прямо "в рай"... Те же, кто любил землю и трудился на ней без отдыха, в будний день и в праздник, действительно, со своих наделов имели хорошие урожаи и хлеба, и гречихи, и ячменя, и всего, что сеялось на поле. Но жили они тоже впроголодь, а многодетные семьи просто голодали.
Вот здесь и начинается первый этап коллективизации. На этом этапе задачей было разобщение крестьянства на множество групп, которые должны как можно сильнее враждовать между собой.
Кулаки, понятно,- это крупные хозяева, которые использовали наемный труд. Их уничтожали вместе с семьями. Имеющие лошадь, телегу, десятину-полторы земли - это кулацкие прихвостни или, проще, подкулачники. Из них более состоятельные были предназначены к уничтожению, остальные - ползающие и лижущие, должны быть начеку. Они могут быть уничтожены при любой оплошности или при желании члена комитета бедноты.
Убрав "кулаков", "подкулачников" и других, нежелательных для своей власти людей, большевики вплотную подошли к коллективизации. Как это было...
Уничтожив почти треть населения страны (не уверен - B.C.), власти надеялись, что оставшаяся крестьянская масса будет покорно следовать указаниям властей. Но не так это получалось, как задумывалось. Кто остался? Кому строить колхозы?
Были крестьяне, которые, кроме лошади, имели в своих вечных свитах и кожухах только вшей и блох, и еще имели небольшие, до десятины, наделы земли.
Были безлошадные крестьяне. Эти имели до десятины и меньше наделы, но, не имея лошадей, обрабатывали землю кое-как или совсем не обрабатывали свои участки.
Третьи были полуземледельцы, полукустари. Они также обладали разными участками земли, как и две первые группы, но все они занимались каким-нибудь ремеслом: портные, сапожники, жестянщики.
Мой дед по маме, например, имел лишь 0,18 га земли на восемь членов своей семьи. И, чтобы прокормить такую семью, он копал людям колодцы и погреба.
В большинстве своем эта категория крестьян по натуре своей и по условиям не способна была к ведению хозяйства, а жила одним днем. Сегодня заработал - завтра есть, что есть, а вот послезавтра уже мучается голодом. У этой категории крестьян больше всего страдали семьи.
Посыльный из сельсовета обходил хаты, созывая всех на собрание. С района приезжал уполномоченный по коллективизации с группой 5-7 человек, вооруженных винтовками. Люди прятались, являться на собрание не хотели. Тогда с посыльным шли молодцы с винтовками: "Не пойдешь на собрание, пойдешь с нами в район, а там скажут, куда идти далее". Приходилось выбирать первое. И вот собрание.
- Кто первый подаст заявление в колхоз? - спрашивает уполномоченный. Из зала поднимаются один за другим человек пять, и подходят к президиуму. Все они, конечно, заранее обработаны, заявления у них подготовлены.
Первого спрашивают:
- Вы, Степан Гаврилович, добровольно вступаете в колхоз?
- Еще как добровольно. Домаха Нимичка ходила по хатам и объясняла, как хорошо мы там жить будем: собственности никакой. Все мужчины и женщины будут жить в огромном длинном здании и не будет так: это - моя жена, а это - мой муж, все мы будем общими, и спать, кто с кем захочет. И кровать будет общая с большим одеялом, которое затягивать на нас будет трактор. Вареники будет делать машина и по конвейеру подавать в рот, только успевай разжевывать и глотать...
Эти рассуждения Степан Гаврилович, он же Озя, слышал от доморощенных агитаторов и, конечно, вносил в них собственный элемент для большей убедительности, что в колхоз он вступает добровольно. Напомню: Озя - это человек, которого сельские начальники подкармливали, отбирая у людей и снабжая его мясом, хлебом и другими продуктами. В его избе всегда варилось, жарилось и парилось. Здесь обедали и обмывали разные чины района, приезжавшие в качестве уполномоченных или по другой работе. В его хате было еще и "комната для наслаждений". Не по годам физически развитая дочь Ози служила общим предметом вожделения. Угощение с юной наложницей получали престарелые мужчины, занимавшие большие районные посты.
После Ози никто из крестьян не выступал. Все стояли, понурив головы. Уполномоченный с активистами поочередно драли глотки, уговаривая и пугая людей.
И такие собрания шли изо дня в день. Но результаты их были мизерные. Тогда "народная власть" применила иную тактику. Бывший хуторской гарнизон вооруженных людей усилили несколькими милиционерами в форменной одежде с револьверами на ремнях. Эта акция должна была внушить крестьянам, что сила власти большая и что она ни перед чем не остановится.
Теперь людей собирали каждый день и прямо с собрания молчунов отправляли в район, дабы там, в застенках, развязать им рты для слов "да" и "вступаю". Остальные томились целый день на площадке возле сельсовета, ночью им не давали прилечь вызовами в сельсовет.
- Ну, как, ты не надумал? Ну, иди домой думать...
Не успевал человек раздеться, как заходит вновь посыльный, чтобы шел в сельсовет. И так - каждую ночь, и каждый день, месяц, другой. Конечно, многие не могли дальше сопротивляться и сдавались. И чем больше сверху нажимали, чтобы быстрее и на 100% провести коллективизацию, тем свирепее становились районные и местные исполнители. Ведь им на это время была дана неограниченная власть. Они могли все, могли применить любое насилие, лишь бы достичь главной цели. Вплоть до расстрела.
Люди видели свое безысходное положение, боялись, но сопротивлялись долго, хотя и пассивно. Много я читал про это время, но ни один писатель полной правды о коллективизации не написал. Может и писал, но ее нигде не печатали. Потому поколения, нас сменившие, будут информированы об этом периоде однобоко. От себя скажу, что ни один человек не хотел колхоза, даже те, кто ничего не имел и ему нечего было терять. И хотя они были сильно сагитированы, но предчувствовали, в какую кабалу заведет людей надуманное "счастье".
Но вот, люди, казалось, стали уступать давлению. Власти уже предвкушали победу, что они вот-вот смогут отчитаться перед своими высшими о полной коллективизации. Но вдруг стали уводить домой лошадей, коров, забирать сбруи, плуги, бороны (видно, после статьи Сталина "Головокружение от успехов" - В.С.). И снова наезжает Чека, ищут зачинщиков, арестовывают. Снова Горе и Слезы.
Наконец, власти твердой рукой свели всех в колхоз. Осталось лишь четыре семьи, не поддавшиеся, несмотря ни на какие запугивания и уговоры. Собрали общее собрание из наскоро испеченных колхозников и постановили: оставшиеся вне колхоза четыре семьи твердолобых контрреволюционеров в колхоз не принимать, но наделы земли у них отобрать и присоединить к землям колхоза. Хаты опахать. Что и было немедленно исполнено.
Коротко об этих семьях, не поддавшихся нажиму.
1) Гродник Иван Денисович. Он, жена, пятеро детей, старшему из них - 11 лет. Человек неграмотный, тихий, услужливый. Чтобы прокормить семью, он прирабатывал на случайных заработках. В дальнейшем он работал то рабочим в техникуме, то в какой-то мастерской. Но постоянно работать не мог. Его начальству поступали откуда-то приказы, и его увольняли. Потом судили за бродяжничество. Жена умерла, дети разбрелись по свету с сумами на плечах, судьбы их мне неизвестны.
2) Усатый Данило Петрович. Жена и один сын. Тоже осужден, жена умерла, куда девался сын - неизвестно.
3) Сербин Федор, имел жену, бездетен. Сразу куда-то уехал, и больше о нем мы не слышали.
4) Четвертая семья - это четыре сестры-сироты. Старшей было 19 лет, младшей - 8. Между собой они жили дружно. Две старшие сестры заботились о младших. У них был лоскут земли, и соседи помогали им его пахать и убирать поле. Потому имели свой кусок хлеба.Но вот "благодетели" опахали хату, т.е. вокруг хаты проложили борозду, за которую они не имели права ступить ногой. Даже туалет остался за бороздой, и им приходилось нужду справлять в сенях.
Стал перед сестрами вопрос: как жить? Чтобы жить, надо есть, а еды теперь добыть дома нельзя. Повесили они сумы на плечи и разошлись по разным направлениям. С их хаты соседи ободрали верх на топливо, а земляные стены, хорошо сложенные, толщиной в 70 см, долго еще стояли. Их размывали дожди и калило солнце, появились трещины. Потом стены обвалились, образовался холм. Холм покрылся травой и стал похож на могилу, в которой схоронена людская свобода.
Когда бы я не проходил в детстве мимо этого места, меня брала тоска, неутешная, неизъяснимая, и терзала мою душу длительное время.
Колхозная жизнь.
На площадке, где хуторская улица делает почти крутой поворот, сделали колхозный двор. В центре линии, образующей площадь, вкопали два столба, наверху соединили их старой доской, реквизированной с чьего-то забора, и написали на ней красной краской "Колхоз "Знамя коммунизма". У хуторян отобрали сараи, клуни, в общем, все, что имелось во дворе, кроме хаты. Все имущество свезли за ворота на площадку. Материал, с уверенностью можно сказать, никудышный. Одно - наполовину сгнившее, из другого сыпется мука. Съеденная шешелем древесина крошилась в руках. Вот из такого материала построили два сарая длиной примерно в 20 метров. Сюда свели отобранных у населения лошадей и коров.
Отец Виктора был лесником и имел сарай метров в 12. Кто-то поумней посоветовал не переносить его на колхозный двор, а использовать на месте и поместить в нем свиней. Так и сделали. Это обернулось большим горем для нашего околотка. Но об этом позже.
К лошадям и коровам приставили отобранных, надежных, преданных советской власти людей. Но эти люди никогда в своем подворье не имели ни лошади, ни коровы. Как их кормить, как ухаживать, они не знали, да и ленились. И, конечно, лошади из упитанных стали, как скелеты, только ребра выпирают из кожи. Коровы, дававшие по 30 литров молока в сутки - или совсем переставали доиться, или давали по 2-3 литра.
Вскоре начался массовый падеж скота. За ним - новые репрессии. Вышел закон: за каждого мертворожденного жеребенка - суд и наказание до 5 лет лишения свободы. За павшую лошадь - 10 лет. Настало самое тяжелое время для конюхов и ездовых. Ведь лошадь не освобождалась от работы до самого "ожеребения". Часто она разрешалась от бремени прямо в борозде, когда изо всех сил тянула плуг. И как же можно было в таких условиях сберечь кобылу и ее приплод?
Работать на конюшне и ездовыми стало хуже всякой каторги. Поэтому работать там заставляли насильно. Многие не выдерживали такого гнета, бросали семью и убегали в другие края. Так было всюду, где работали люди. Пала корова, свинья - сразу находили "козла отпущения". Клеили ярлыки "вредителя" или "контры". На ярлыки такие дефицита не было, и клепали их, кому как вздумается.
И парадокс... те, кто ждал колхоза, агитировал за него, на работу не ходил. Для них был изобретен ярлык "саботажник". Эти люди, привыкшие жить на подачки от властей, не умели трудиться для себя. Обманываясь тем, что в колхозе будут трудиться другие, а им еще доступнее будет жрать из общего котла, вдруг узнали, что в колхозе и им надо работать. Руководство желало повлиять на их совесть агитацией, пугали ссылкой и прочим, но сделать из них работников было невозможно. Тогда делали так. Из досок сбивали плакат площадью метра на полтора. Окрашивали его черной краской и привязывали к нему из ремней лямки. Белой краской или мелом писали крупными печатными буквами: "Я лодырь и прогульщик" или "Я саботажник, а значит, враг" или "Я дармоед, и мне не место между вами".
В общем, много разных изречений, выдуманных культпросвещенцем - скороиспеченным учителишкой, который и таблицы умножения не знал, но имел достаточную фантазию для опорачивания достоинства человека. Специально учредили должность "вожатых". Их выбирали из дюжих мужиков покрепче и давали наряд: "водить лодыря". Это и были "вожатые".
Наряд давался с вечера, указывалось и кого водить. Ранним утром эти два молодца брали свою жертву или из постели, или со двора, с улицы - там, где его настигали. Одевали лямки на плечи, так, чтобы большой черный щит с позорным изречением оказывался на спине жертвы. Молодцы брали мужчину или женщину под руки и волокли вместе с тяжелым, позорящим грузом сначала по хуторским улицам, потом везде, где есть люди - к кузнице, на коровню, свинарню, конюшню. Потом выводили в поле или садоогородную бригаду. Водили целый день, в течение которого эта процессия должна была побывать два-три раза всюду, где работали люди. И только вечером жертва приносила свою ношу в контору. На следующий день ее будет носить кто-то другой. Замечу, что больше всего приходилось носить "черную" доску тем, кто агитировал за колхоз. Агитдурман улетучился. Настала реальная действительность. Надо было тяжело работать, и не то, что вареники, чтобы хотя бы какого-нибудь супа или картошки в мундирах съесть.
Кроме нехватки продуктов питания, и другие бытовые условия крестьянина стали много хуже. Простой пример: заболел кто-либо из семьи, а она не имеет своей лошади. Больница за 12 км от хутора. Раньше этот человек шел к соседу, к Левку, Петру... И кто-то из них, даже если у него самого неотложная работа, бросал все и больного доставлял в больницу. Теперь же в таком случае надо искать председателя колхоза:
- Дайте мне повозку отвезти больного в больницу...
- Ты что, хочешь сорвать посевную!? Или вывозку навоза? или поднятие зяби? - или что-нибудь еще в этом же роде. Ведь срочные работы в колхозе идут круглый год.
Больной ребенок, жена, или сам крестьянин, не получив помощи, умирает или, даст Бог, выздоравливает сам.
Это только один пример. А сколько надо крестьянину на год случаев пользоваться тягловой силой? И где ее взять? Лошадей посдавали, теперь они хоть и "наши", но не моги ими пользоваться. Они только для колхозных нужд.
Делать что-то для личной надобности считалось капиталистическими наклонностями и резко пресекалось. При таких условиях жизни - нищета, бесправие, жестокость и бессердечность власть имущих привели к большому упадку крестьянской семьи. Безысходность такого положенная порождала у людей апатию к окружающему и к самому себе. Люди начали жить по принципу: "День прожит, и хорошо, а завтра, как Бог даст".
Труд в колхозе не оплачивался. Судите сами... Женщина на прополке сахарной свеклы получала трудодень за прополку 20 соток. Даже на не очень засоренной бурьяном площади, работая не покладая рук, она могла прополоть только 7-10 соток. Значит, ей писали третью часть трудодня, а на прополке огородных культур и того меньше.
На постоянных (повременных) работах кузнец, счетовод, кладовщик, полевой бригадир и другие получали 1,25 трудодня. Председатель и агроном - целых 1,75 трудодня. Постоянные работники низшей категории вроде сторожа - 0,75 трудодня. Я, когда научился самостоятельно вскарабкиваться на лошадь, пас летом табун лошадей и за день мне писали 0,5 трудодня.
Но сам трудодень являлся абстракцией. В реальности же на трудодень иногда получали по 200, иногда 300 грамм проса или ячменя. Оплата производилась следующим образом. По состоянию посевов определяли средний урожай зерна. С урожая вычиталось зерно, вывезенное в хлебопоставки и зерновой фонд, а потом и прочие его расходы. Рассчитывали примерное количество выработанных всеми колхозниками трудодней. Остаток зерна делили на эти трудодни и получали эти граммы. Например, бухгалтеры высчитывали, что на трудодень можно дать по 500 г пшеницы. За полугодие давали аванс на выработанные трудодни - но не по 500 г, а примерно по 400 г. Остальное, мол, дополучение будет при остаточном годовом расчете доходов.
Проходила жатва, обмолот хлеба. Вывозили хлебопоставку государству. Но тут же район требовал сколько-то тонн вывезти дополнительно, так как некоторые соседние колхозы недовыполнили свою поставку. Потом поступает директива, что поставку хлеба недовыполнил другой район и должны немедленно вывезти еще сколько-то хлеба. Наконец, вытряхивали из колхозных амбаров все зерно. И правление колхоза еле натягивает людям на трудодень по 200 г проса с ячменем. Оказывается, что, получая за полугодие аванс, люди перебрали вдвое больше, чем они должны были получить при окончательном годовом расчете. Таким образом, люди оказываются еще должны колхозу, и этот долг будут с них вычитать в следующем году. А кому было положено получить пуд-полтора, то и его не получали, потому что вычитали на разные обложения.
Обложения - это постоянные поборы - изматывали человека и добивали его окончательно. Продналог, сельхозналог, страховка, самообложение 120 куриных яиц, имеешь кур или не имеешь - не важно, 40 кг мяса, держишь какую скотину или нет - не важно. Если имеешь поросенка, обязан сдать на заготпункт кожу. Если есть коза или овца в хозяйстве, должен, кроме кожи, сдать сколько-то кг шерсти.
И в довершение всему, примерно в то время, когда с колхозниками производился годовой расчет, проводилась кампания государственного займа. Здесь уполномоченные-десятихатники старались содрать со своих подписчиков как можно больше, чтобы поменьше пришлось подписывать их родственникам и знакомым. В период подписки на заем насилию и садизму не было предела. Скажем, десятихатник (а эти люди были специально подобранными человеконенавистниками, они из кожи лезли, чтобы вытянуть у людей назначенную сумму) распределял подписку таким образом, чтобы беззащитные семьи вдов и иных неактивных людей подписывали почти на 70% займа, т.е. на двор попадало 500-700 рублей.
Человек видел, что ему не под силу выплатить эту сумму, даже если бы он продал все свое хозяйство. Но, вынужден подписать, потому что, во-первых, его пугали высылкой, что и делали для назидания другим, во-вторых, месяц-полтора не давали покоя, ночью таскали в сельсовет, с работы и из дома, днем и ночью, пока он не уставал и подписывал, только бы отвязались от его души.
Так и приходилось крестьянину ходить в долгах, как во вшах: поля своего нет, конопли посадить негде, в огороде - лучше уж какую картошку и фасольку посадить. Да если б и было где-то, из-за колхозной работы не было времени возиться с коноплей. А конопля - это ведь необходимое сырье, это нижняя одежда колхозника и рядно, чтобы застелить топчан или лежанку. Верхней одежды - свиты - также не из чего было шить. Чтобы наткать сукно, надо настричь шерсть - а где же те овцы? Нет их теперь и в помине. О такой же зимней одежде, как кожух, теперь нечего было и думать. Сделать или купить кожух - это фантастика.
Пройдут годы, когда тем, кто пропалывают свеклу, иногда будут привозить ситцевые платки, да и то продавать только передовикам и активисткам, т.е. языкатым, как их называли в те времена. Обнищание людей усугублялось, голод и холод уносили в могилу многие жизни. Но это было лишь преддверие голода 1932-33 года.
В тот голод вымирали целые деревни, а в иных деревнях было поголовное людоедство.
Эпизоды голодных лет.
Первый. Сеньку Кесаря, который был чекистом и истязал людей, когда ему в голову ударял садистский дурман, перебросили в соседнее село за то, что он бросил свою жену и взял в жены двенадцатилетнюю Озину Марусю. За годы его правления в этом селе осталось только 5 хат, в которых выжили по одному-два человека, а остальные были сброшены в яму для свеклы.
Делалось это следующим образом. Люди уходили на работу, но домой ни идти, ни ползти уже не могли. Кесарь учредил специальный катафалк с парой лошадей, и при них два мужика покрепче. Они ездили по хатам и собирали трупы, сваливая их в свекловичный кагат. В вечернюю пору этот катафалк объезжал и места работы, поля. Тех, кто не смог уйти домой, сваливали тоже на катафалк. И не имело значения, мертв он или еще живой, отвозили к яме и сваливали всех туда, под тем предлогом, что хоть и жив, но раз идти не может, значит, завтра умрет.
38-летний Иван Сидорчук косил со всеми, но выбился из сил и не смог уйти со всеми. Понемногу полз на четвереньках. Но заметил его знаменитый катафалк, и бросили между трупами. Был он в полном сознании, знал, что вывалят его в кагат глубокий, откуда ему уже не выбраться никогда. Напрягая все силы, перекатился через труп и свалился на землю. На какое-то время потерял сознание. Отойдя от обморока, почувствовал, что мужики силятся снова бросить его на катафалк. Сколько мог, он сопротивлялся. Но и у гробовщиков, или как их еще назвать, силенки тоже истощились. Повозясь с умирающим и видя, что сил и у них мало, чтобы его поднять, один сказал: "А, черт с ним, пусть лежит, завтра подберем" - и уехали.
Спал он или нет, но почувствовал холод. Заалел небосвод - скоро утро. Ни одного утра в своей жизни он не боялся, как этого. Ведь отвезут и бросят в яму. Страх заставил его ползти в бурьяны. Изредка отдыхая, он полз и полз, не думая, куда, и не имея ориентира. Выполз на картофельное поле минувшего года. Там ему попалась картофелина. Зимой она замерзла, весной оттаяла и солнышко просушило ее. Мякоть вся вымерзла, но крахмал еще остался, и он с жадностью съедал. И еще ему попадались такие картофелины, он сначала прятал их за пазуху, но потом вынимал и съедал.
Сколько это продолжалось, он не знал, утолил он так голод или нет, тоже не знал, потому что уснул. Проснулся от холода. Рассветная сторона еще не поднималась, но месяц светил ярко и видно было, как днем. Он снова ползал по полю, стараясь как можно больше собрать картошки. Но бессознательно двигался на восток. Сколько времени прошло с начала его путешествия, он не знал. Только оказавшись возле сахарного завода, он понял, что от катафалка и своей смерти он отполз на 15 км.
С завода добрые люди подвезли его к железнодорожной станции, и очутился он в Донбассе. На первых порах устроился сторожем, а по совместительству помогал рабочей столовой. Когда окреп, полез в шахту коногоном. Прошло время, и он смог скопить даже небольшую сумму на дорогу домой и подарки родным. Приехав домой, застал пустой не только свою хату, а и все село.
Второй, о другом селе. Оно также от нас недалеко, и через него наши ходили или ездили в город. Село это лежит в глубокой долине, как в пропасти. По склонам балок на холмиках, где только была сравнительно ровная площадка, лепились хаты. Потому никакого порядка между хатами не было. К какой хате шла дорога, а к какой - только скрученная тропинка. Здесь было удобно жить разным ворам, а может и бандитам. Поди, знай, что делает сосед, если иные из них по полгода друг друга не видят.
В 1932-33 годах люди этого села почти полностью самоуничтожились. Здесь было поголовное людоедство. Село это было проклято людьми, и его обходили, как говорится, десятою дорогою. Заросло оно сплошным бурьяном: лопухи, осот выше крыш. Позаросли и дороги, и тропинки. В этих джунглях и высматривали сельчанин сельчанина. Конечно, в схватке побеждал сильнейший, колотил по голове камнем или поленом, или удавливал, хватая за горло. Не дожидаясь полной кончины своей жертвы, он обрезал на ней все места, где еще намного оставалось мышц. Если же у жертвы были только кожа и кости - то вырезали внутренности.
В начале людоедства в этой деревне произошел такой случай.
Две девушки учились в городе. В субботу после занятий они обычно шли домой на выходной. Занятия в тот раз кончились поздно, но они решили идти домой, хоть и предстояло пройти 15 км до той деревни, где жила одна из девушек. Другой же надо было добираться до дома еще пять километров. Конечно, девушки стремились идти как можно быстрее, но темнота настигла их еще далеко от села. Становилось все темнее и темнее. Наконец, добрались они до хаты первой из них. Отец и мать обрадовались не только дочери, но и случайной гостье. Они уговорили ее переночевать. И девушка согласилась переночевать у подруги, ведь в такую темноту идти страшно, да и можно заблудиться. О том же, что в этом селе уже началось людоедство, она не знала. Меж людьми еще только просачивались слухи, и большинство говорило, что это брехня, такого не может быть.
Родители накормили их каким-то зеленым супом и уложили спать. Возле одной стены - топчан, на нем девушки и легли спать... родители на лежанке. При том гостья лежала на краю, а хозяйская девочка от стенки. Гостье почему-то не спалось. То хозяйка пришла, облапала их, будто проверяла, не сползло ли рядно с девушек, чтобы не замерзли. То хозяин проявлял какую-то процедуру. Варька (так звали гостью) не могла уснуть. Она боялась, что, лежа на краю топчана, может свалиться на пол. И вот, когда подруга повернулась, она перелезла под стенку, а подругу оттеснила на край.
Ночь тянулась долго. Как она ни закрывала глаз, они раскрывались, и сон убегал прочь. И вот она почуяла еле слышный шепот и вся превратилась в слух. Что говорилось шепотом, она не расслышала, но через некоторое время услышала крадущиеся к девичьей постели шаги. Может, заботливые хозяева обеспокоены, чтобы они не замерзли, и снова будут проверять, не сползло ли рядно, она почувствовала, как шарят пальцами по голове ее подруги и ожидая прикосновение к себе. Но вместо этого она услыхала глухой удар и хруст, должно быть, черепа. От страха тело ее омертвело: ни кричать, ни пошевельнуться. Вдруг тело ее подруги шлепнулось на пол и его потащили в сени. Когда дверь захлопнулась, она пружиной бросилась в окошко. Полусгнившая рама разлетелась на куски, и Варька очутилась во тьме, во дворе. Отдаляясь от страшной хаты, она услышала вой волка и волчицы, которые, поняв свою ошибку, завыли на всю деревню.
Сожрали они тело своей дочери, или нет, неизвестно. Но люди воочию убедились, что творится в соседнем селе. А Варька пережила голодовку, потом имела семью и умерла на 50-м году от болезни.
Третий. Мы - ребята, девочки и мальчики, играем в прятки на краю хутора - здесь есть, где спрятаться в огородах, деревьях, кустах. Круг, в который стремится вбежать обнаруженный ищущим (или неприкосновенным), находится рядом с кладбищем и обозначен мелом. Играя, мы не обращаем внимания на Санька, сына Кривой Ольги, который возле самого кладбища копает яму. Сантиметров семьдесят глубиной, полметра шириной. Выкопав до таких размеров, поволок лопату домой. Хата его крайняя. Вдруг все дети бросили игру: Санька со своего двора волок какой-то тюк хлама. Только подбежав к нему, мы видим, что тянет он свою мать - Кривую Ольгу. Вместо одежды на ней такие лохмотья, что большая часть тела неприкрыта. Мы все следуем за Саньком, а он ни на кого не обращает внимания. Больная ее нога, полусогнутая, цеплялась за разные бурьяны. Тогда он прикладывал больше усилий, и нога отцеплялась. Труп медленно двигался к кладбищу.
Дотащив мертвую мать к яме, отдышался. Потом приподнял труп за ноги, мать его головой вниз, ногами вверх оказалась в яме. Яма была узкой, неглубокой, поэтому он долго старался как-то втолкнуть ноги трупа в яму. С бывшей здоровой ногой он справился, а больную никак невозможно было впихнуть туда же. Наконец, взял лопату и забросал яму. Но из нее продолжала торчать ступня с пальцами. Немного постоял, срубил несколько кустов полыни и набросил на торчавшую ступню.
Потом полынь сдул ветер, ступню разъедали муравьи, а косточки ее долго еще белели возле ямки-могилы под дождями и солнцем. Санька исчез с хутора навсегда.
Четвёртый. Кто-то и где-то заботился о многодетных семьях. На нашей улице таких семей было две: наша и Проськи Ковтупки. Вот мне и Ивану Проськину назначили пособие. Два раза в неделю нам полагалось получать на семью 500 г хлеба. Выдавать этот хлеб был поставлен учитель Банькатый. Глаза у него сидели как-то сверх глазниц и величиной были с куриное яйцо. Он так поставил выдачу хлеба, что за все лето мы смогли получить от него лишь четыре раза эти пайки хлеба. А ведь ходили мы с Иваном к его хате исправно, ни одного из назначенных дней на выдачу хлеба не пропускали. Один раз Иван не пошел за хлебом - пробил гвоздем пятку, отчего опухоль погнало на всю ногу, так что он метался в жару. Мать Ивана попросила, чтобы я получил и Иванов хлеб. Но Банькатый Иванового хлеба мне не дал. Да и моя пайка была, наверное, вдвое меньше, не пятьсот, а грамм 250. Получил я эту пайку, бережно замотал ее в лист лопуха, и за пазуху.
Иду и придерживаю драгоценную ношу рукой. Вдруг догоняет меня парень, годков на 5 старше меня. Его бедра опоясывал только остаток штанов, ноги были черные, как в серых чулках, чуб свалялся и склеился репеями, лицо, как у ??са... труса??. Держит он в руке веревочку, на которой треплются три карася.
- Что несем? - спрашивает он меня.
- Да получил пайку хлеба.
- А я, видишь, каждый день карасей ловлю, ем их, и так живу.
- Хочешь карасей ловить?
- Хочу, да у меня крючка нет.
- Дай хлеба, я тебе сделаю крючок.
- Да, я знаю, на простой крючок рыба не ловится, крючок нужен с бородкой.
- Чудак, я и делаю крючки с бородкой, пошли ко мне.
Это был Григорий М. Мы вошли в его двор, сплошь заросший. Снопки соломы на крыше наполовину ободраны. Мурованные стены облуплены и поколоты. Двери сами открылись вглубь сеней. В хате - темень. Окно закрыто вязанкой бурьяна. В верхней части отверстие, откуда идет свежий воздух. Стены закопчены сажей, хуже, чем в печной трубе.
- Садись,- сказал Григорий и указал на изрезанную и источенную доску, непонятно на чем держащуюся возле стены.
Я сел. Через какое-то время начал различать предметы. В углу, где и положено, стояла печь. Все закопчено сажей, облуплено, обвалено. Возле печи - лежанка. Когда мои глаза еще больше привыкли к темноте, на лежанке я разглядел еще какой-то предмет. Но тут хозяин снял с окна вязанку полыни, что прикрывала его, и бросил в угол. В хате стало достаточно светло, и я увидел сидящую на лежанке голую женщину. Она была так закопчена сажей, как будто одета в черную плетеную одежду, тесно облегающую тело. Роскошные темные волосы прядями падали аж на голые бедра. Часть пучков их свисала с плеч и падала на лежанку. Опухшее лицо, черное от сажи, светилось лишь белками немигающих стеклянных глаз и белизной зубов, когда она открывала рот, силясь сглотнуть слюну в пересохшем рту.
Возле лавки, где я сидел, было положено несколько кирпичей, а на них лежала огромная сковорода, грязная и закопченная.
Пока я оторопело все это осматривал, Григорий вышел во двор. Возвратился он с парой снопков соломы, сорванных с крыши. На сковороду он уложил трех карасей, вместо масла налил воды и запалил под сковородой солому. Дым сразу же заполнил хату, но через какое-то время повис полуметровым шаром под потолком. В оконный проем, который служил здесь и дымарем, в половину проема валил с хаты дым. А в нижнюю половину окна струился свет и свежий воздух.
Женщина все более наклонялась над лежанкой, и когда клониться стало уже невозможно больше, замерла, как будто готовая к прыжку. Все ее внимание было сосредоточено на карасях, шипящих на сковороде. Когда догорел пук соломы и, по мнению Григория, рыба была готова, он встал, сковороду поставил на лавку немного поодаль от меня:
- Ну, давай хлеб, я покушаю, и сделаю бородку на твоем крючке. Вот смотри,- он взял на окне крючок,- у меня уже есть готовый, надо только сделать бородку, и все.
Я вынул хлеб из пазухи и отдал Григорию. Он бережно развернул мой сверток и положил хлеб с листа лопуха на сковородку, вытряхнул туда же и все крошки. И принялся за трапезу. Один. В это время руки женщины, упиравшейся в край лежанки, соскользнули, и она чуть не свалилась на землю. Только теперь Григорий обратил на нее внимание:
- Ты чего глаза вытаращила? Думаешь, тебе дам? Мне и самому тут есть нечего.
- Кто это,- тихо спрашиваю.
- Мать моя...
- Так дай же ей половину своей еды. Она же есть хочет...
- А вот этого она не хочет?
Он свернул кукиш и с силой толкнул им прямо в нос матери. Своей матери. Она абсолютно не отреагировала на сыновью выходку, как бы приготовившись к прыжку, не сводя глаз с содержимого сковородки. У меня закружилась голова, стало дурно и тошно. Я вскочил с лавки и во всю прыть бросился бежать.
Прибежал домой я плачущим. Мама решила, что хлеб у меня отняли и, как могла, утешала. Когда я немного пришел в себя, то рассказал ей все, как было. Она не упрекала, только сказала: "Жаль, что хлеб отдал такому нелюду. Да и вообще жаль... " Ведь она очень надеялась на этот хлеб. Вскипятила воду с разными листьями буряка в ведровом чугуне. Если туда покрошить хлеб, который я иногда приносил, то от хлебного духа получался вкусный и сытный суп, которым насытилась бы вся семья.
Пятый. После затяжных осенних дождей все улицы превратились в непроходимое болото. Взрослые ходили берегом, осоками и травой. Мы, мальчики и девочки, лезли в грязь, где поглубже, где нам было до колен.
В два часа дня - конец школьных занятий. Выйдя на улицу, ребячий гурт разделился, кто направо, кто налево. С нашего участка улицы все ребята и девочки ходят вместе. Все босые, в драной и грязной одежде. Ногами и руками бросают одни на других грязью.
Навстречу по этой грязи ползет женщина, в одной рубашке, разорванной на груди, без рукавов. Тело, конечно, покрыто грязью. Груди ее двумя грязными тряпками волочились по земле. Она приподнимает голову и, опираясь на руки, с большим усилием подтягивает туловище. Белеют только две точки глазных белков. Она ничего не видит, вернее, не понимает.
Подходим ближе. Виктор берет полную горсть грязи и швыряет в лицо ползущей. Девочки и мальчики гогочут. Женщина даже и не заметила, не сделала и попытки освободить свое лицо от грязи. Тело женщины сильно вздулось, в нем нет ни признака жизни. Но вот сильный толчок воздуха изо рта, и ком грязи отвалился. Женщина начала тяжело дышать - ведь ей залепило нос и рот. Еще через некоторое время грязь сплыла с глаз и снова заблестели белки. Виктор намеревался повторить еще раз свой "остроумный опыт", но с соседнего двора выругался мужчина, и мы пошли дальше.
Женщину ту звали Оксаной Пытюшкой. Муж ее Федор был активным комбедовцем и с большим усердием исполнял свою черную работу. Регулярно участвовал в обходе хутора на предмет изъятия зерна и других продуктов у населения. Чутье у него было просто собачьим - стакан фасоли, торбочку ржи, чугунок картошки - он из-под земли доставал и выкапывал. Ходили комбедовцы и иные группами в 6-8 человек. Простукивали стены хаты и сарая. Острыми прутьями протыкали землю в хате и возле хаты, во дворе и на огороде прощупывали землю. Обыскивали подворье так, что ни картошины, ни зернышка не могло быть незамеченным. И особенно отличался в деле поиска Федор Петюх.
Если уж он что пролапал, прощупал - то комбедовцы были уверены, что там уже ничего не найдешь. И районное начальство знало - значит, у людей взять больше нечего и потому дальнейших директив о новых поисках продуктов питания больше не спускало, а на отсебятину сельских активистов смотрело сквозь пальцы.
И вот, проходила неделя-две, и комбедовская шайка вновь собиралась и уже своей волей шла по хутору, подметая вновь все, казалось бы давно вычищенное. Кто-то где-то приобрел стакан фасоли, кому-то родственники прислали кило крупы и т.д. - все это находили, отбирали и приходили с награбленным к Озе, там делили меж собой и разносили по своим домам. Но Федор Петюх и тут отличался: свою долю он нес не домой жене, семилетней Тае и девятилетнему Степке, а к вдове Надьке. Но не с вдовой он живет, а с ее 12-летней дочерью. Правда, обе они хорошо откормлены. Свою же жену и детей он бросил сразу, как только почувствовал благорасположение к себе высшего начальства. Так и жил он у Надьки, в то время как в его родной хате умирали от голода родные дети, а обезумевшая от голода жена уползла в какое-то осеннее болото...
Шестой. Одиннадцатилетний Ленька Слон сделал лук. Мать приказала ему настрелять воробьев - она из них варит вкусный суп. Раньше при открытой двери он сыпал приманку, и воробьи сами залетали в сени. Теперь никакой приманки нет, да и воробьи чувствуют недоброе, потому в сени более не залетают. Но, как вспомнит вареные в супе воробьиные тельца, аж слюна изо рта течет - вкусная вещь! Потому попробовал лук на счастье. Одну стрелу выстругивал ножом полдня. Сделал ее ровной, а наконечник из жести. Сел за толстой яблоней и ждет.
Вот на вишневой ветке уселась стайка серых комочков. С замиранием сердца Ленька натянул тетиву и пустил стрелу. Но стрела подняла всю стайку на крыло, но не задела ни одного воробья. Стрела улетела далеко в чужой огород. Он побежал к ней, не спуская глаз с места, куда примерно могла бы упасть стрела. Вдруг нога его куда-то неглубоко провалилась, поскользнулась на чем-то, и он упал. Это была яма небольших размеров и неглубокая, чуть присыпанная. Но в проделанной его ногой дыре виднелась часть человеческого тела. Испугавшись, он бросился к матери.
Рядом с ними жила семья Кучманов: две сестры-близняшки по 32 года и их брат Степан. Он был младше сестер и умственно недоразвитый, попросту идиот. И еще с ними жила дочка одной из сестер, девочка пяти или четырех лет.
Около хаты собралось несколько мужчин и женщин. Они требовали открыть двери, но никто не отзывался. Тогда коваль (деревенский кузнец) просунул в щель между досками руку и открыл дверную щеколду. Дверь открыли. Обе испуганные сестры залезли под топчан и зарылись в мусор.
- Где Степан? Где твоя дочка? Где ребенок? - их люди спрашивают, но обе женщины головы не поднимают, и, ни звука.
Тогда взяли лопату и повели этих хищниц в огород к яме. Там откопали трупы - останки их брата и дочери. Сестры пали на землю и с сумасшедшим воем стали кататься вроде как от колик.Трупы были обрезаны до костей - все, что только можно было обрезать. Я случайно проходил по улице и стал невольным свидетелем самого страшного, что только может случиться с человеком. Мужчины постарались глубже захоронить трупы. Женщины долго обсуждали случившееся. Потом все разошлись по домам, и жизнь, ужасная, голодная, снова поволоклась своей колеей.
Через какое-то время трупы обеих сестер были сброшены в братскую могилу. Людоедство их не спасло.
Седьмой эпизод. Хуже бедствия, чем голод, не бывает. Я имею в виду всеобщий голод. Как бы искажается мозг, человек теряет человеческие чувства, становится зверем. Такой зверь делается в несколько раз страннее природного: кроме инстинкта животного, он обладает еще умом. В нашем хуторе было слышно лишь о двух случаях людоедства. Кучманки, о которых сказано выше, и еще на новой улице выше хутора. Там было застроено только четыре надела, выбранные, как кому нравится. Так что хаты стояли не рядом, а на различных расстояниях между собой. В одной из четырех хат жила женщина с двумя детьми.
И от люди заметили, что детей давно не видно. Начали требовать объяснений: где дети? Женщина бросила хату и все, что там было, и исчезла, а неуспокоенные хуторяне нашли припрятанные два обезображенных, обрезанных детских трупа. Эта женщина все же выжила и возвратилась в свой край после Отечественной войны. Не на хутор, конечно, а в другое село, где на глухом кутку купила хатку на курьих ножках. Чтобы об ее прошлом никто не узнал, она ни с кем не общалась, чем и соседи ей отвечали. Стала она старой и дряхлой, но умерла все же от голода в 1947 году.
Но сейчас речь идёт о 1932-33 годах.
Зимой 1933 года доживших лошадей приходилось на шлеях подвешивать к потолку конюшни, чтобы не ложились на пол, Свалившиеся на пол были приговорены к смерти, сами подняться на ноги уже не могли. Ведь мужчин осталось мало, да и оставшиеся были бессильны поставить лошадь на ноги. Лишь девятка полтора лошадей дожили до весны. Приучили их стоять в особых узких коридорах из досок на собственных ногах. С наступлением весны, когда поля позарастали сочным бурьяном, оставшихся лошадей решили выгнать на вольный выпас в поле, так как работать они не могли. Но это решение погубило лошадей окончательно. После зимней сухой, часто прелой соломы, они жадно набрасывались на свежую зелень, объедались. Утомленная от еды лошадь ложилась отдохнуть или просто падала - и больше подняться не могла. В бурьяне появлялся труп за трупом.
Правда, лошадь не успевала даже остыть. Только что лежал лошадиный труп со вздутым животом, а через час-потора - уже один костяк, как будто наждаком отточенный. А пройдет время - и кости унесут. Но должен заметить: ни одна семья и ни один человек, что питались лошадиной падалью, не остались живыми - все вымерли. Наверное, в трупах образовывались ядовитые вещества, которые и помогали голоду справиться с человеком. Наверное, смерти способствовали трупные бактерии.
О нашей семье в голодные годы и после.
Подошло время сказать немного о нашей семье. Как могло случиться, что семья из девяти ртов не потеряла ни одного человека, в то время как вымирали целиком и семьи, и целые кутки (улицы)?
Да, от голода мучительно страдали и мы. Конечно, мы, дети, несли только половину страдания, а каково было отцу и маме, которые болели и от голода, и от страха за каждого из нас? Всеми силами старались они уберечь семью от смерти. Отец работал беспрерывно день и ночь, хотя сам был, как сухарь, худ и обессилен. В непрерывных заботах была и мать. Как-то получалось, что они дополняли друг друга в изобретательности поиска кормов. Например, отец по договору с колхозом работал на сахарном заводе - что-то восстанавливали от вытяжной трубы до заводского забора. И как-то руководитель этих работ увидел, что "этот старик" хоть и слаб, но работает по-совести. Приглядываясь, убедился, что он работает так даже без указаний, хотя и знает, что ему за работу напишут только трудодни дома, на которые он ничего не получит.
Однажды перед выходным начальник сказал отцу, чтобы после работы зашел в заводскую контору. Озадаченный и встревоженный, почему его вызывают, пошел он в контору, но там ожидала его не беда, а радость: ему вручили ордер на получение 8 кг патоки. Восемь килограммов патоки - это ж такое богатство в то время! Мама тоже приготовила сюрприз. Но о нем надо рассказать подробней.
Как пошли в рост листья на деревьях, лес стал кормильцем. В то время в основном пострадала липа. Не успели листья достичь своего нормального размера, как были буквально уничтожены, съедены. Липовые деревья стояли обломанными, обрезанными, голыми. После этого найти в лесу живую липу стало так же трудно, как напасть на слиток золота. Ведь люди перепробовали есть листья всех деревьев, но они были несъедобными по непереносимой горечи, или даже вызывали сильную рвоту. Только липовые листья можно было есть, хотя и они были, конечно, не мед. Их сушили в печке, помельче растирали и, у кого сохранились жернова, перемалывали на муку, из которой пекли что-то вроде оладий. Правда, глотать их было трудно, преодолевая тошноту, часто болел живот - и все же они как-то утоляли голод и поставляли какую-то энергию для организма.
Но липы хватило ненадолго. Начали употреблять разные бурьяны, выискивая среди них наиболее съедобные. И мама, когда в лесу отыскать съедобное стало невозможно, переключилась на поле. И однажды ей повезло. Она вышла на голое поле, где осенняя вспашка еще не успела зарасти бурьяном полностью. Сначала она не обратила на него внимания, стараясь перейти на другое поле, где бурьян поднялся уже гуще. Но вдруг ее внимание привлек сморщенный грязный мячик. Она его подняла и увидела, что это перезимовавшая картофелина. Разломила - и оказалось, что картофель превратился в желтоватый крахмал. Там она насобирала почти полмешка прошлогоднего картофеля. Дома все тщательно очистила, размяла хорошенько и из этого замесила тесто. Оладьи вышли вкусные, сытные и выдавались нам строго по порциям.
Когда же отец привез с завода патоку, и мама начала немножко добавлять ее в это картофельное тесто, то получались не оладьи, а деликатес, такого блаженство, наверное, не было во всей жизни. Семья наша, конечно, была счастлива, хоть на время, но отодвинулся страх перед голодной смертью.
А ведь смерть от голода могла постигнуть нашу семью еще минувшей зимой, когда есть было совершенно нечего. Но тогда выручил случай.
Соседка Ирина Яровая часто зимой уезжала куда-то месяца на два-три, а куда, никому не говорила. Хозяйство же на время своего отсутствия доверяла маме. Отдавала ей ключи от хаты и сарая, но от кладовки ключ забирала с собой. Мама смотрела, чтобы никто не снял дверь хаты или сарая, чтобы не срывали с крыши снопки соломы на топливо, чтобы целыми были окна. Иногда маме приходилось забивать дыры, вырытые мышами, иногда свежей глиной смазывать пол в хате. Обычно и я увязывался за мамой во время этой работы, заглядывал во все углы и закоулки, рылся иной раз и в хламе - ведь все чужое кажется таинственным и возбуждает интерес.
Однажды я забрался на чердак. Там было пусто, но когда глаза привыкли к темноте, то заметил большую кучу чего-то. Забрав на пробу в руку и поднеся ее к свету, я, к своей неописуемой радости, увидел, что это крупные кукурузные отруби. Отруби оказались очень хорошими, в них было много зерновой массы (и как их при обысках не приметили?). Взял я торбу и перетаскал всю кучу отрубей к себе в сарай, в пустой сарай. Сгрузил в одном углу и прикрыл соломой свое приобретение.
Мама не обратила на мою суетню никакого внимания, и я был свободен от маминых запретов. Но с этой поры меня все время мучила мысль: что будет, когда приедет хозяйка с сыном Никитой и хватятся, что их отрубей нет? Если хозяйка спросит, мама, конечно, будет допытываться правды у меня. Тогда не останется ничего иного, как признаваться и отдавать хозяевам.
Но тревоги мои, на счастье, были напрасными. Ирина и Никита, по возвращению не заметили пропажи, может, и не знали, забыли о содержимом своего чердака. Когда же прошло много времени, я успокоился, а голод, напротив, дошел до высшей точки, я открылся маме. И не могу сказать, чего в ней в тот момент было больше: горечи или радости от моего поступка. (Взять без спросу - для отца и мамы - невозможный грех, но без этих отрубей мы, наверное, не выжили бы). Отрубей было около 70 кг, и они надолго поддержали жизнь семьи. Мама набирала кружечку, выбирала из них мышиный помет, а чистые отруби сушила, размалывала в жерновах и варила баланду. И, конечно же, она была вкуснее и питательней любого бурьяна.
Так и перебивалась наша семья то одним, то другим. Но мяса наша семья не ела, хотя лошади и другой скот падали, но мать и отец никогда не соблазнялись пойти и отрезать себе кусок падали. И на базаре никогда не покупали мясные продукты, потому что представляли, из чего они делались. Соседкин муж Филипп был в городе, купил и привез домой несколько котлет. Жена разломила котлету, а в ее середке торчит обыкновенный ноготь с человечьей руки. Так она ходила по хутору, показывала эту котлету и в голос выла: "Люди добрые, что же это такое?"
В июне 1933 года голод достиг апогея. Умерла бабушка Марта. Помню: старший мой брат Женя сидит под копной соломы, уже опухший от голода, и двигаться не может. Мама сидит рядом с ним, плачет и уговаривает: "Женя, сынок, не умирай. Подожди еще немножко, уже скоро накормлю тебя хлебом, вот посмотришь, только не умирай... " Как будто жить или умереть - от него зависит. Я тоже плачу. А он положил голову на солому, и все ему уже безразлично, ни одной жизненной искорки в глазах, ни единого желания или интереса.
Помню, мама встает, снова просит: "Подожди, я скоро приду", берет мешок, серп и идет огородом в поле. Давно уже приметила, что на старом токовище, между густыми зарослями бурьяна растет остатняя рожь. Стебли буйные, колос крупный, но зерна еще не созрели. Растерла она колосок на ладони и увидела лишь половинки зерен ржи, еще мягкие и как будто налитые густым молоком. Но выжидать ей больше уже нельзя. Нажала мама колосьев, принесла домой, высушила в печке и получила три стакана зеленых морщинистых зернышек. Их размололи в жерновах - получилась зеленоватая мука. Спекла мама из них два коржа, выпросила у соседки кислого молока: "Сын умирает" - и начала кормить Женю так.
Теперь она ходила в поле каждый день и приносила ржаные колоски, а зерна в них с каждым днем увеличивались. Потом в огороде стали подкапывать картошку. Несколько картофелин, с орех величиной, немного ржаной муки - и выходил вкусный и питательный суп. И вот постепенно Женя возвратился к жизни и через время немного набрался сил.
* * *
Вся наша семья работала в колхозе. Отец сначала был ездовым, потом его перевели в плотницкую бригаду. Мама же целое лето не выпускала из рук сапу (тяпку). И дома огород надо прополоть, а в колхозе сколько было той прополки, что все женщины от восхода солнца до полной темноты гнули на ней спины. А работы не убавлялось.
Женя зимой ходил в школу, а летом уже как взрослый работал ездовым. Я же с Иваном Приськиным работал летом в садово-огородной бригаде. В основном мы пололи картошку, помидоры и другие огородные культуры. Позже меня взял к жеребятам бывший кавалерист Сергей Штанько.
Он любил лошадей и требовал этого от других. Жеребят отлучали от кобыл примерно в полгода, а в работу не брали до двух лет. После двух лет пару выросших лошадей отдавали в бригаду опытному ездовому. Дядя Сергей подобрал мне спокойную лошадку, чтобы я мог самостоятельно взбираться на нее. Когда табун жеребят в 25-30 голов выпускали из ограды, то я должен был во весь дух гнать их, чтобы жеребята не успевали забегать во дворы. Так я вихрем пролетал за хутор на лужок, где был выпас для жеребят. За эту работу мне писали 0,75 трудодня.
В общей сложности наша семья вырабатывала в эти годы 700-900 трудодней (правда, в народе их звали - дурноднями).
* * *
Кратко поясню, что голод не кончился ни в 1933-м, ни в какой иной довоенный год, хотя уже и не был таким сильным, как в 32-33-м году. Вот возьмем для примера достаток нашей семьи. Зарабатывали трудодней много, а получали на них мало. Денег же не платили и копейки, трудодни оплачивали только хлебом. Этого хлеба хватало бы, даже если бы он весь шел на семейную еду, только на 2-3 месяца в зависимости от числа едоков. Но ведь надо было платить еще и непомерно большие податки (налоги). Продналог, сельхозналог, мясо, яйца, кожу, шерсть, страховку. И в завершение всего самое тяжелое: заём!
Встает законный вопрос: как же могли выживать люди, да еще расплачиваться с государством? Хотя и были в постоянном "долгу" перед ним? А объяснение тут простое. Все, что выращивалось на приусадебном участке - шло на уплату податей. А чтобы как-то прокормить семью, нужно было подворовывать в "родном колхозе" (и быть вечно виноватым). Хищения были разные, но в мелких размерах: то карманом, то торбой, то вязанкой, то повозкой. Более сподручно было воровать женщинам. Они шили специальные торбочки, которые умудрялись помещать между ног. Там шарить не решался никакой оперуполномоченный, а тем более охранник.
Мы, дети всех возрастов,- тоже брали. Главное, чтобы не узнали, чей ты или чья - ведь за детей отвечали отцы. В воровстве у колхозников была полная солидарность, никто за это никого не осуждал, между собой все брали открыто, так как понимали - это единственный способ выжить, когда заставляют работать без оплаты.
Один большой политик назвал бесплатный труд школой коммунизма (кажется, это было сказано на субботнике). Его последователи взяли это определение за аксиому, и ничего за работу не платили. Вернее, плата была столь мизерной, что ее можно было не принимать в расчет. Но такие порядки и впрямь стали школой - школой выживания, спасения от голодной смерти. И так мы научились, что и спустя 70(60) лет твердо знаем ее уроки. Кто где работает, там и берет, что можно взять. В разные времена бравших людей звали по-разному и по-разному наказывали. В пору становления колхозов их называли врагами народа и строго судили. Один лишь пример: Шолох Оксану Григорьевну осудили на восемь лет лишения свободы за два килограмма ржаных колосков, собранных на жнивье, когда уже проводилась вспашка поля. Судили, несмотря на то, что она имела двух детей; девочку трёх лет и мальчику - семи. Потом они ходили по дворам, протягивая ручонки, просили есть.
Государству, его руководству, видно, были выгодны эти воры - ими пополнялась бесплатная рабочая сила, подымавшая индустриализацию страны. А потом этой индустриализацией будут кичиться разные прихлебатели и их потомки: "Мол, за такое короткое время - да поднять и довести до уровня... !" И никто из них не вспомнит, какой ценой все это делалось и сколько жертв забрала эта индустриализация, сделав народ нищим.
Рабочих людей звали ворами. Соответственно и наказывали. Спустя 70 лет, в период перестройки, эти люди приобрели новое название - несуны! И снова объявлена суровая борьба с несунами. Но, как известно, сила инерции огромна. Ведь хоть и берут, но никто из людей во все периоды становления нашей власти не считал себя врагом, вором или несуном. Эти массы народа - не воруют, а берут, хотя смертельная необходимость в этом уже отпала, голод им не угрожает. А берут потому, что все - наше, общее. Мы его производим - и оно наше. И так везде - от верха до низов, с той лишь разницей, что условия для "взятия" - неравные. Ведь чем выше чин, тем больше возможность взять. Ну, а внизу берут, что попадется: гвоздь - в карман, доски - порезал, и в мешок домой. Да, срабатывает сила инерции, да и неудовлетворенная потребность - ведь в магазине многого не купишь...
Репрессии 1937-1938 годов.
Судьба отца.
Черная туча снова накрыла всю страну. Непреходящее горе посетило миллионы семей в эти тяжкие годы. Хищный дракон из Гори, обосновавшийся в стольном городе, проголодался. У него разгорелся аппетит, никогда не слыханный в мире до сих пор. Миллионы человеческих тел перемолол он в своей ненасытной вонючей утробе. Без какой-либо причины стали арестовывать людей, и закрытые суды заработали на полную мощь. В эти суды допускались лишь те, кому предстояло что-либо говорить предписанное на обвиняемого.
Не минуло это страшное горе и нашей семьи. В феврале 1938 года зима была снежной и суровой. Улица была переметена большими снежными сугробами. Утром ночной сторож на свиноферме сдал свое дежурство и готовился идти домой на отдых. Подтянул веревки на тряпках, которыми оборачивал ноги взамен обуви. Женщины, пришедшие кормить свиней, сказали ему, что снегу намело по колено. Правда, шапка, у которой мех наполовину вытерся, прикрывала его седую голову еще надежно, а вот "бобрик" самотканого сукна очень прохудился и заплаты совсем плохо держались на нем, много было дыр, свободно пропускавших студеный воздух к его худому стареющему телу. Полотняные штаны были вправлены в тряпки, обернутые вокруг ног, и увязаны до колен веревками. В таком одеянии в помещении, да двигаясь, еще можно было сносить холод, а вот как он будет идти по морозу?
- "Ну, ничего, девочки, тут недалеко, как-нибудь зайчишкой доскачу, авось на скаку не замерзну" - отшучивался старик.
И вот, собравшись и пошутив, он простился с женщинами и вышел из помещения в бушевавшую снежную бурю. В глубоком снегу старик с усилием вытаскивал то одну, то другую ногу. Небольшая борода и усы быстро превратились в один ледяной ком, и только щель, из которой вырывался пар при дыхании, свидетельствовала, что это живой человек. Был он среднего роста. Преодолевая сильный встречный ветер, нагибался сильно вперед?. Издали можно было подумать, что идет мальчик. Упорно двигаясь, он преодолел вьюгу и сугробы, добрался до избы и, войдя в нее, радостно сказал: "Здравствуйте, дети, вот и я!"
Холод согнал нас с остывшей печки, как только еще начало светать. Чтобы согреться, мы затеяли игру, и пыль столбом стояла в хате. Отец после холода вздохнул пыльный воздух и закашлялся. Когда кашель прошел, он сказал: "Согреваетесь? - Ну и молодцы! Сейчас мы протопим печку, сварим завтрак, и я лягу отдохнуть, а вы займетесь книгой, чтобы не очень шуметь".
Сняв шапку и бобрик, он поставил в печь казанок с картошкой в мундирах и зажег огонек. Спичек не было, и он, как и все, пользовался кресалом. Просохшие дрова запылали в печке, и от пламени будто теплее и светлее стало в избе. Отец поставил стул возле печки и сел так, чтобы ноги, обутые в тряпки, положить на припечек, ближе к огню. Когда же тряпки с веревками, эти ледяные самоходы оттаяли, он облегченно вздохнул, сбрасывая с ног эти путы. Расправив и уложив "обувку" для просушки, он взялся отмораживать усы и бороду. Когда последняя льдинка была оторвана от волос, вытер тряпкой лицо.
- Ну, дети, я полезу на печку, отдохну, а вы смотрите - когда картошка сварится, будите меня, будем завтракать".
Но не пришлось нам его будить. Минут через 10, как он взобрался на печку, дверь резко отворилась, и в хату ввалились вместе с холодным воздухом два человека: один в гражданской форме - местный охранник С.Д., второй в милицейской форме, Максименко, как он назвался отцу. Был он выше среднего роста, имел лицо без морщин, правильный нос, голубые очи и на людей, его не знавших, мог произвести приятное впечатление. Вежливый, говорит ровным голосом, иногда улыбаясь - ну, просто симпатяга. Лет сорока.
- Здесь живет?... - называет он отцовы фамилию, имя, отчество.
- Да, тут,- отец слез с печки. - Я и есть он самый...
Уполномоченный как-то смутился, сник и даже растерялся: "Я, Иван Михайлович, ... должен, мне поручили... Меня, как видите, послали сделать у Вас обыск". Пока он искал форму изложения своей мысли, лицо его то краснело до цвета околышка на фуражке, то белело до цвета белой глины или мела. Ведь перед ним, молодым, одетым и сытым, стоял настоящий бедняк. Ниже среднего роста, с худым морщинистым лицом, худой шеей, тонкими руками, босыми, старчески обезображенными наростами ногами - дряхлый старик. Латаная-перелатаная домотканая исподняя одежда - она же и верхняя рубаха, такие же и штаны. А на лавке и топчане - четверо ободранных полуодетых детей. Неизвестно, что смутило милиционера, невиданная бедность или старость его жертвы, сказать не могу.
- Какой обыск? - переспросил отец. - Выпить с холода я иногда люблю, но не гоню, говорю Baм честно.
- Нет, Вы не так поняли... Я...
- Да чего там. Конечно, Вы вправе не верить, ищите, пожалуйста.
Но снова уполномоченный в замешательстве: "Не в самогоне дело. Надо произвести это... общий обыск". И сразу обратился к охраннику: "Позовите сюда кого из соседей, как понятого". Охранник вышел, а оперуполномоченный расстегнул сумку и начал вытаскивать из нее какие-то бумаги. Потом попросил разрешения сесть к столу и начал заполнять какой-то лист бумаги. Заполнив, обернулся к отцу:
- Я вижу, Иван Михайлович, что здесь какое-то недоразумение, но я прошу Вас одеться и после подписания акта обыска Вам придется пройтись со мной до конторы. Там я позвоню в район и выясню, в чем дело. Кстати, что-то я не вижу Вашей хозяйки, дети и Вы, небось, еще не завтракали, советую Вам немного подкрепиться.
Весь этот монолог был произнесен с участием и сожалением.
- Хозяйка моя уехала в Киев, к родне, в надежде достать хоть какую-то обувку. Вот она какая у меня,- показал отец, увязывая свои тряпочные лапти.
В хату вошел охранник с понятым - соседом Фёдором Арс. Оперуполномоченный дописал фамилию понятого в акте обыска - и он был готов к подписи. Акт был заготовлен в типографии, поэтому его составление не было трудным - занес фамилии на соответствующих местах и все. Против места, где печатался перечень найденных вещей: запрещенные книги, драгоценности и пр. (перечень был большой) оперуполномоченный поставил одну ломаную линию в виде латинской буквы "Зэт", что значило: при обыске ничего не найдено.
- Будем обыскивать, или и так все видно? - спросил уполномоченный.
- Да что тут обыскивать,- махнул рукой сельский охранник.
- Тогда подпишите акт.
Федор Арс. поставил крестик, т.к. не владел грамотой, хоть и кончил ликбез. Вот и все. Выходя из хаты, отец сказал нам: "Не бойтесь, дети, я ни в чем не виноват". Сказал это уверенно и вышел.
В моей памяти образ его в тот день запечатлелся на всю жизнь. И как, наверное, уже понял читатель, больше мы не видели своего отца никогда.
Мама вернулась домой через три дня после ареста отца. В это время она носила под сердцем нашу самую младшую сестру Олю, которой ни разу не довелось увидеть своего отца. Узнав, что случилось, мама слегла в горячке. Но, пролежав в беспамятстве несколько дней, она встала. Зашли женщины, чтобы вместе идти выручать своих мужей. В день ареста отца взяли еще четверых мужиков. Собрав кое-какой еды для передачи, женщины пошли в район. Но, протолкавшись по разным инстанциям районного начальства, они ничего не добились. Ни свидания, ни передачи не приняли, мотивировав свой отказ тем, что арестованных здесь нет. А на вопрос: "Где же они?" - следовал лаконичный ответ: "Не знаем!" Просителей таких были сотни, так как аресты шли везде по району, а останавливались только вследствие переполнения местной тюрьмы. Был страшный хаос. Из тюрьмы арестованных куда-то вывозили, а взамен битком набивали все новых и новых. Ничего не узнав о мужьях, ночью женщины вернулись в село, еще пришлось просить ночного конюха, чтобы отвез больную маму домой.
Слегла она надолго. За больной мамой и нами ухаживала старшая сестра Нина. Брат хлопотал об отце и вместе с другими несчастными ходил в район в надежде получить хоть какую весточку об отце. Но все арестованные, как в воду канули, и никто не мог ничего узнать. К тому же начали еще и разгонять народ, пугать просителей, что запрут и их, придется родным тогда и их разыскивать. Для острастки заперли несколько женщин. Тогда люди и убедились, что обращаются они к зверям в человеческом обличье: и перестали ездить в район, а начали ездить с жалобами кто-куда, в самые видные инстанции. Но результаты были те же.
Мама немного оправилась от болезни, стала понемногу работать в хозяйстве. В мае 1938 года родилась маленькая, красная, в морщинках, как бабушка, девочка, и имя ей дали Оля. Женщины, с которыми мама работала, все возмущались: "Как могли забрать безвинных людей? И кого? - Самых честных, кто вырабатывая по двести трудодней в году... Скажем, твой муж, ну, чем он виноват? Уж старый, работал честно, не пил, ни с кем не ругался. Да вы припомните, молодицы, слышал ли кто из вас, чтобы муж ее матюкнулся или как еще выругался? Никто этого не помнит - нет, нет и нет... "
Так женщины возмущались каждый день, не желая того, подливали все больше горя в душу мамы. Потом они все вместе настояли, чтобы она обратилась к депутату Верховного Совета. Недавно были выборы и депутатом Верховного Совета выбрали человека из соседнего села, потому что он дал большой урожай и был ударником ком.труда, награжден орденом и уважаем высшим начальством. А добротой и отзывчивостью заслужил славу у тружеников села. Все настаивали на этом обращении, хотя и знали, в 1937 году и раньше брали людей, и из тех, кого взяли, никто не вернулся домой... Говорили: ладно, берут молодых, будут там работать, а старика зачем мариновать? Следует заметить, что мама была моложе отца на 10 лет. Жили они очень дружно, отец был весел, т.е. старался быть веселым, особенно когда семью постигали беды. А было их немало. Но всегда он находил способ вывести ее из угнетенного состояния.
Долго надежды и сомнения боролись и попеременно брали верх в ее душе. Однако чувство надежды пересилило, и она последовала уговорам людей.
Депутат был мужчиной лет 39-ти, приятной наружности. Он внимательно выслушал все, о чем рассказала ему мама. Но, когда она выразила просьбу похлопотать о муже, он как-то заерзал на стуле и покраснел. Видно, голова его была занята, как поделикатней отказать в таком деле. Эта женщина думает, что ему под силу любые дела, раз он - представитель власти, а именно так говорится в законе - Конституции. Но она не знает, что на деле ему под силу решать только незначительные гражданские дела, и что он имеет власть только требовать работу по исполнению указов вышестоящих властей. А сделать для человека что-либо важное, как в данном случае, он власти не имеет. Но как же объяснить это просительнице?
Да, трудно быть депутатом. Ведь если бы он и решился обратиться с ходатайством о помиловании этого человека, то ему припишут такое, что не только депутатского мандата лишится, но и головы. Он еще не потерял совесть, и мучительно искал выхода из создавшегося положения. Нашел: "Хорошо, вскоре я буду в вашем селе, тогда и поговорим об этом деле".
С этим мама и уехала домой ждать. Прошло несколько недель, и маму вызвали в райисполком, показали, в какой кабинет зайти.
Человек, сидевший за столом, сказал, что по ее ходатайству о муже помочь ничем не можем, но дадим помощь, как многодетной матери. Он предложил ей подсесть к столу, подсунул ближе чернильницу и ручку с пером. Положил лист бумаги и сказал: "Пишите заявление, я буду диктовать".
- Писать я не могу, неграмотная.
- Это плохо, но ничего.
Он крутанул ручку телефона и вызвал к себе девушку, начал диктовать ей, а она записывала. Заявление получилось на целый лист. Когда покончили с составлением заявления, он сказал: "Нужны метрики всех детей и Ваши. Копии с них снимите в своем сельсовете. Заявление пусть перепишет кто-нибудь из ваших детей, а Вы представите его сюда, в райисполком".
Прошло довольно много времени, пока собрали документы, пока послали их в Верховный Совет, там утвердили и, в конце-концов, мама получила две тысячи рублей. Тогда был издан Указ Верховного Совета, мать, имеющая семерых детей (живых, конечно), имеет право получать помощь на седьмого ребенка до его 6 лет в сумме 6 тысяч, выплачиваемых через год по две тысячи. Таким ребенком у нас была Оля.
За первые же две тысячи мама купила развалюху в селе, в котором родилась (деньги за проданную хату ушли на уплату податей, что обсели нас, как опенки пень). Наконец, мама могла не видеть тех иуд, которые продали отца не за сребрянники, а за собственную шкуру. При встрече они все склонялись в великой почтительности, просто как ангелы. Может, догадывались, что маме известно, как все было с арестом отца.
А было так. В активисты и правление колхоза подобрали 8 человек. Это были трусы и лентяи. Если бы любому из них власти велели свидетельствовать на свою мать, сделали бы это без колебаний. Например, один из этой восьмерки свидетельствовал против своего родного брата, ни в чем не повинного, у которого дома остались пятеро малых детей и больная жена. Правда, узнав про это злодеяние против брата, люди от него отвернулись. Он всем старался доказать, стоя на коленях, что к этому его принудили, что если бы он не сделал, как ему велели, то и брата бы не освободил, и его самого забрали. Каждый понимал, что так, наверное, и было бы. Но тогда ты и умер бы честно, а так кто ты есть? - Христопродавец, и нет тебе прощения от людей. Он не находил места, ему было невыносимо глядеть в глаза жене, жене брата, племянников, его мучили кошмары - и тогда он повесился в сарае. На похоронах людей не было. Только свои вывезли в телеге. Шмякнули в яму, перевернув повозку, как последнее падло.
Судилище над отцом проходило за 90 км от нас, в захолустном городке. Да можно ли вообще это представление звать судом? Здание было окружено "красными околышами", туда никого не допускали. Все происходило в закрытом дворе. Улицей, которая тщательно охранялась, арестантов подвозили во двор и задворками вводили в зал судилища. Действовал конвейер: одних привозили и толкали вперед, а других выводили из зала и отправляли в тюрьму. На судейских местах сидела тройка вышколенных чекистов. На каждого арестанта у них было все готово: срок и даже место отбывания наказания. Из дела арестованного они задавали наугад какие-либо вопросы типа:
- Свидетель Иванко, что вы знаете о подсудимом?
Свидетелю давалась записка, что именно он должен говорить против подсудимого. После того, как он пролепечет требуемые слова, его выводили из зала. Так было с четырьмя свидетелями против отца. После проговоренной свидетельской лжи подсудимому зачитывали, за какие проступки и на сколько лет он осужден, увозили в тюрьму, отметив в приговоре, что подсудимый признался в своей деятельности против государства, даже если человек на суде ни разу и рта не раскрывал.
Отца нашего осудили на 5 лет лишения свободы и три года лишения права голоса. Мама была больна, и на суд ездил брат, но отца он так и не увидел. Потолкались они возле дома судилища вместе с односельчанами, и никому из них не дали свидания, не приняли передачи. Можно только гадать, почему другим давали по 10-15 лет? Думаю, потому, что они увидели: отец староват, он и пяти лет не выдержит, не выживет. Другие же были на 15-20 лет моложе отца и способны работать.
И еще одна загадка: спустя две недели мы получили письмо, писанное еще в том городке, где проходило судилище. Письмо прошло через все казенные учреждения, что видно было по штампам на конверте. Видно было, что конверт вскрывали и запечатывали, даже не стараясь быть аккуратными. В этом письме отец описал все, как проходил суд, кто против него свидетельствовал, как те четыре человека бессовестно клеветали на него, заранее выучив наизусть готовые тексты лжи.
Против него, как, впрочем, и против всех арестованных односельчан, свидетельствовали председатель сельсовета, председатель колхоза, откуда-то присланный и лишь месяц проживший в селе, и два сельчанина, которых постоянно употребляли в такой роли.
Из нашей семьи в колхозе постоянно работали трое: отец, мама и брат. Я и старшая сестра Нина работали только летом, потому что мы учились: я - в школе, Нина - в техникуме. Так что наша семья вместе вырабатывала в год 950-1200 трудодней, из них на долю отца приходилось 180-220 трудодней в год. Но в предыдущие годы он работал постоянно ночным сторожем, и ему писали только 0,75 трудодня за ночь, работал он без выходных, без отпуска. И так последние три года он имел по 273 трудодня. Кстати, между судимыми был один неколхозник, так с него потребовали справку о количестве выработанных трудодней. С отца же и других колхозников таких справок не требовали, но зато на всех подсудимых была дана ложная записка, будто они саботировали колхозный труд.
Почему-то в этом письме отца не было зачеркнуто ни одной строки, ни одного слова. В последующих письмах отец часто повторял ранее написанное, но в письмах уже были замаранные строки. Он описывал, как ему, старику, тяжело работать в тайге, пилить большие деревья и ворочать тяжелые бревна. Особенно жаловался он, что нечего курить, и просил прислать табачку. В каждом письме спрашивал, как чувствует себя мама, как дети и напоминал о табаке. Мы писали письма и каждый месяц собирали посылку, в которой, конечно, главным был табак. По письмам отца видно, что он от нас ни писем, ни посылок не получал. Наверное, это был еще один способ издевательства над осужденными. И сколько ни писали мы писем в ГУЛАГ и лично Сталину, ответы приходили стандартные: "В Вашем деле помочь не представляется возможным... " - И все!
Потом была война. После разгрома оккупантов в Корсунь-Шевченковском котле мне удалось со своим командиром заехать на три часа домой. Мама сразу дала мне открытку от отца. Я прочел: « Я - живой, (далее два слова густо замараны), прошу родных или соседей сообщить, есть ли кто-нибудь живой из моей семьи? Если есть, (снова зачернена целая строчка и половина следующей). Далее: "Целую вас всех. До свидания". И адрес: Свердловская обл., станция Сарапулька, адрес, фамилия, имя, отчество отца.
Что за слова были замараны - неизвестно. Делала это, конечно, цензура. Судя по почтовому штемпелю, открытка была послана полгода назад и шла она к нам вместе с продвижением фронта на запад, потому и дошла домой через шесть месяцев.
Через три часа я уехал в свою часть, мама осталась с самыми малыми: Галей и Олей, и не было кому сразу написать по этому адресу и узнать про отца.
Когда в сентябре 1945 года меня больного с остеомиелитом привезли домой, я сразу начал писать письма к начальнику станции или другим служащим этой станции с просьбой разузнать хоть что-то о моем отце. Но ответа никто не дал. Поехать туда я не мог, потому что раненые ноги гноились и были, как налитые свинцом. После смерти Сталина пришел клочок бумаги о реабилитации отца. И все.
Наша жизнь в предвоенные годы. «Мои университеты».
Однако вернемся в предвоенные годы.
Горе, случившееся с отцом, тяжелым грузом давило на семью. Мама начала часто болеть. Сестра заканчивала агрономический техникум. Брат работал, не покладая рук, но семья жила впроголодь. Зимой все сидели в холодной хате, ибо во двор не было в чем выйти. Лишь когда брат после работы приходил домой и сбрасывал с себя бобрик и старые латаные чоботы, подаренные соседом-сапожником, то можно было в них одеться и выйти во двор кое-что сделать по хозяйству. Зима была подлинной пыткой, особенно для многодетных семей.
Но вот в нашу семью снова пришла беда. Брату положено было служить срочную службу, но его, как и других парней, чьи отцы были репрессированы, в армию не брали. И вдруг - вызов! Брата и его сверстников призывают в армию - семья лишилась последнего кормильца.
Долго от брата не было весточки, но потом пришло долгожданное письмо, где он написал, что служба его проходит в Карпатах, где тучи бывают даже ниже, чем он, а сверху - яркое солнце. Писал, что служить ему хорошо и интересно, что в Карпатах очень красивая природа. Потом письма от брата стали приходить регулярно, и мама после каждого письма становилась спокойней, здоровее.
Хочешь-не-хочешь, а надо было работать в колхозе и дома. Конечно, мы все старались ей помочь. Я летом работал в колхозе, но за серьезного работника меня еще не принимали, такая же была и плата. Оставалось мне учиться еще год. Вот кончу семь классов и буду зарабатывать трудодни, и буду делать все, чтобы меньше работы ложилось на мамины плечи.
Однако после окончания мною 7-го класса мама и слушать не захотела о моей работе и решительно настояла, чтобы я учился дальше. Ослушаться ее я не мог и поступил в агрономический техникум. Два года назад сестра окончила этот техникум и теперь где-то далеко работала агрономом. Она собрала, сколько могла, денег, и сельская, не очень квалифицированная портниха из ситца сшила мне костюм по случаю поступления в техникум. В ботинках, которые подарил сапожник, я походил очень недолго - они распались. Боже, как нам, босоногим, хотелось на занятиях физкультурой встать в задний ряд, спрягать ноги, но это удавалось сделать только за партой. И как мы завидовали, когда кто-нибудь из босоногих вдруг являлся обутым в ботинки. По наступлению морозов я быстро пробегал двухкилометровый путь от дома до техникума, садился за парту и обогревал ноги, просто сидя на них. По наступлению же морозов босоногие были официально освобождены от физкультуры.
Правда, директор поставил ультиматум: или приходить обутыми, или прекратить посещение уроков. Но требования директора не исполнялись. Не помню, какая из сестер купила в Киеве мне красивые ботинки. Вскоре после этого события выпал снег. В конце концов, холода ушли, настала весна, а за ней и экзамены.
Но не успели пройти экзаменационные тревоги, как пришли другие, куда серьезнее: откуда-то появился слух об отмене стипендии. Трудно было в это поверить, ведь 30 рублей в месяц, которые мы получали, для многих были единственным средством учиться. Одинокая больная мать или даже отец и мать, но имевшие 5-6 детей, не могли обучать сына.
Мой двоюродный брат имел больную мать и меньшего брата, потому учиться мог только благодаря стипендии. Квартировал он у родственников, а на стипендию кормился в студенческой столовой. Если отменят стипендию - пропала учеба.
Однако действительность оказалась тяжелее слухов. В начале учебного года объявляется общее собрание студентов, и слово предоставляется директору:
- Товарищи! Вследствие улучшения материального благосостояния нашего народа и в связи с большими потребностями индустрии нашей страны, наш любимый отец и вождь, повседневно и еженощно заботясь о нашем благе, дал предложение упразднить стипендию для студентов и ввести плату за обучение в высших и средних учебных заведениях. Как видите, наша партия, наш любимый вождь печется о благе каждого из нас и о благе всей страны... " - и так далее, далее. А окончилось выступление так: "Любимому Отцу, Вождю, Учителю - Ура, товарищи!" - Но из двухсот пятидесяти человек раскрылось только три рта. Далее выступали потерявшие или вовсе не имевшие никакой совести педагоги, представители власти и от студенческой аудитории. Конечно, все они заранее выучили свои речи наизусть... И все речи - одного содержания, везде один и тот же цинизм и наглость. "С горячей благодарностью принимаем решение... Ура! Единогласно!"
Трудно описать, что творилось с нами после того собрания. Треть студентов забрали документы и разъехались по домам. Оставшиеся, как с похмелья - за уроки не садились, всеми овладела апатия, безразличие ко всему. Мои домашние строго-настрого запретили мне забирать документы: "Еще три месяца, когда указ войдет в силу, а там как-то станет платить сестра. И не смей бросать учебу!"
Это был не единственный указ, который вызвал вражду у народа. Например, теперь при демобилизации отслуживших одевали в свои лохмотья, а военную форму оставляли в частях.
Начались и разговоры. Конечно, доверительно рассказывали один другому анекдоты, разные слухи. Кто-то разбросал по району листовки крамольного содержания. Возле сельсовета неизвестный повесил дохлую курицу, прицепив к ней на грудь лист с довольно длинным стихотворением, в котором курица объясняла, что именно принудило ее повеситься. Стихотворение было написано складно, красивым слогом и с едкой сатирой на нашу жизнь. Содержание его такое: "Как же далее жить (спрашивала курица) - заставляют сколько-то снести яиц для плана, потом долгоносиков истреблять, после жнивья убирать поле от колосьев". - Читая, трудно было удержаться от хохота.
Но все это большинству студентов, да и жителей, не было известно. Зато ночами комсомольцы и партийцы ходили по улицам в надежде уловить злоумышленных ведьм.
Конечно, про это было сообщено в Киев, оттуда сразу выехала тройка. Под ее руководством все органы порядка и гражданских служб были брошены на ловлю преступника или преступников. Конечно, вся работа велась в тайне, чтобы не вспугнуть вредителей... У всех студентов собрали тетради по литературе, якобы для проверки их способностей и выявления самых способных. Эта тройка работала в одном из кабинетов сельсовета.
После уроков, пообедав, в яркую солнечную погоду я забирал свои конспекты и шел в сад под яблоню. Там быстрее усваивался материал, и утомление было меньше. Так поступил я и в тот день. Но только расположился под яблоней, как идет посыльный из сельсовета: "Тебя вызывают в сельсовет!" Спрашивать: "Кто? Зачем? " - не было смысла. Возле сельсовета на скамейке сидело два человека, один старше меня лет на 5, другой - на 2-3 года.
- Ты не в курсе, туда можно заходить? - показал я рукой на дверь.
- Тебя вызывали?
- Вызывали.
- Тогда посиди, нас тоже вызвали, и мы ждем уже три часа, скоро вызовут.
Каждого из них держали по полтора часа. Наконец, пришла и моя очередь. Среди комнаты, против входной двери стояли стол, три стула. Лицом к двери сидел мужчина лет тридцати пяти в темном костюме, белая рубашка, темный галстук с серыми косыми полосками. Лицо правильной формы, красивое, черноволосый, с красивой прической. По левую сторону от него сидел похожий на него лицом и убранством мужчина, словно они были близнецы. На столе разложены стопки газет, журналов и лист чистой бумаги. С правой стороны на диване лежал мужчина. Ноги его в лаковых ботинках покоились на перилах дивана. Входящему в кабинет лицо его не видно - только черно-бурая чуприна, торчащая крупными концами завитков.
Войдя в кабинет, я остановился возле двери и поздоровался. Сидящие за столом мне не ответили. Все их внимание было сосредоточено на перекладывании газет с места на место. Я ступил еще два шага к столу и спросил: "Меня вызывали в сельсовет, нельзя ли узнать, кто меня вызывал и по какому поводу?" Оба мужчины подняли голову: "Как фамилия?" Я назвал фамилию, имя, отчество.
- Ага! Садитесь - указал на стул сидящий по другую сторону стола. Я сел. Прямо передо мной лежали заголовками - "Известия", "Правда" и другие газеты.
- Вы учитесь в техникуме?-- Да.-- Это очень хорошо.
И начал pасспрашивать про учебу, про многое другое, что, по моему понятию, не имело никакого смысла... есть ли у меня девушка, здорово ли я ее люблю. Куда она после окончания школы думает поступать учиться...
Этот "задушевный разговор" (иначе его трудно назвать) проходил спокойно. Вопросы задавались порой с иронической улыбкой, и по тому или иному поводу выражалось участие. Шутки переходили всерьез и наоборот. Вел эту беседу сидящий напротив меня. Сидящий же слева не обращал на нас внимания, что-то списывая с журналов (так мне казалось). С дивана изредка задавались вопросы, как уколы шпаги или змеиного жала. Отвечал я и на них также ровно и спокойно.
Но вдруг, задавая вопрос, этот человек обернулся ко мне. Меня как будто парализовало. И не вопроса его я испугался, а страшного лица. Вот когда мне преставился случай убедиться, что звери, как братья наши меньшие, часто сходны с человеком. Это лицо напоминало бульдожью морду: искрящиеся черные с мутными белками и сверлящие глаза, лоб до самых бровей зарос, как и на голове, витками черно-бурой шерсти. Нос расплющен по всему лицу и оканчивался небольшим бугорком над губами с круглыми, далеко раздвинутыми одна от другой дырками-ноздрями. Губы - как два вареника. Вместо щек на скулы спускаются кожаные мешки. От такого видения в животе холодеет и тянет в туалет.
- Не смущай парня, Кириллыч, видишь, он еще стеснительный, - ласково проворковал мой собеседник. Тот, громко рыгнув, затих.
Когда же мой собеседник исчерпал все свои вопросы, он сказал: "Мы представители редакций газет. Я - от "Правды", мой коллега,- он кивнул на пишущего, - представляет "Известия". Нашим редакциям нужны корреспонденты с глубинок. Мы хотим знать, как живут люди в селах, отдаленных от городов. Особенно нужны описания труда передовиков соцсоревнования, ударников, людей, преданных колхозному строю. Но надо вскрывать и нерадивых, лентяев, противников нашего уклада жизни. Нам нужно талантливое пополнение в литературе, поэты и прозаики.
- Вам не доводилось писать стихи? - Пробовал в 3-4 классе. - - Ну, и как получалось? - Не получалось. Свои стихи я посылал в пионерскую газету, но от редакции прислали письмо, что напечатать мои стихи не смогли. Они слабенькие, надо побольше читать, хорошенько анализировать прочитанное - тогда, может быть, стихи мои можно будет печатать в газете.
- Совет правильный. Вы, конечно, ему последовали? - Нет, читал я книги столько, сколько позволяло время, а стихи писать больше не стремился. Когда удалось достать Пушкина и Лермонтова, я понял, что лучше не напишешь, и мне стало стыдно за свою писанину. Я бросил все в огонь и больше писать не пробовал. - И напрасно. Что же, по-Вашему, Пушкин и Лермонтов так с детства и начали строчить свои шедевры? Сейчас Вы сможете присылать нам не стихи, а краткие корреспонденции о хорошем и плохом, что дeлается в колхозе. - Для того чтобы писать, надо знать, что там делается, а чтобы знать - надо бывать, a у меня нет такой возможности. Мама больна, работает в колхозе. Дома три младшие сестры, и некому маме помогать. Так что я учу уроки, а в свободное время делаю, что надо по хозяйству. Другими делами заниматься не могу.- Ну, что ж, раз так - идите, учитесь, работайте. Желаем успеха. - Благодарю, до свидания. - Всего лучшего.
Выйдя с допроса, я уже понял, что это была не беседа, как старались меня убедить эти люди, а настоящий допрос (то, что я говорил, записывал сидящий слева). Но я ни в чем не виновен, и страха не было. И все же тревожное состояние не покидало меня. Они найдут. А если не найдут того, кто делал свое тайное дело?.. Тогда смогут отыграться на таких, как я, чьи отцы были репрессированы. Составлять обвинения они умеют, ничем не оправдаешься, никто не поможет. Ведь расследуется "вредительство" и по-настоящему времени расплачиваться кому-то придется обязательно. "Ну, что будет, того не избежать" - решил я утешиться таким заключением. Но "тройка" спешно уехала, не доведя дела до конца, т.е. до приговора. Никому не известны причины такого небывалого поступка карательных органов. Все поутихло. Через какое-то время появлялись крамольные листовки. Однако из людей о них никто знать не мог, потому что все убирали ночью. Группы слежения патрулировали ночные улицы. И все же "птица" в руки не давалась.
В техникуме пошла нормальная учеба, всякие слухи о таинственном поэте-борце прекратились. Спустя несколько недель была арестована немка. Минуло два года, как она появилась в селе с младшей сестрой и старенькой матерью. Ей было 22 года, красивая, умная. Преподавала она немецкий язык в школе и техникуме. Ходили слухи, что по образованию она - топограф и что по чьему-то заданию снимает карту района. Ее же в народе и обвинили в разбрасывании листовок, "повешении курицы" и прочем. О топографических ее занятиях было известно властям, а о листовках и ином - наговор. После войны стало известно, что это было делом группы из четырех парней, живших по одному в разных деревнях, и организованной студентом, бросившим техникум после отмены стипендии и введения платы за обучение.
Начало войны.
Не так давно отошла в прошлое война с белофиннами. Особой тяжести от нее в нашей местности не ощущалось. Вот в соседнее село пришел мужик без руки, в другое - с отмороженными ногами. Наши четыре участника этой войны рассказывали, как они брали линию Маннергейма, как много перестреляли наших солдат финские ''кукушки". Рассказывали, что финны на лыжах, а взамен винтовок каждый имеет автомат. Наши же по пояс вязли в снегу, а они на лыжах налетят, из автоматов наших выкосят и быстро удаляются. Много чего еще наслушались тогда, но поговорили, и забыли, как ничего и не было. Еще давали о себе знать националистические банды в завоеванной (или освобожденной) Западной Украине. Они прятались в лесах днем, а ночью нападали на новую власть.
И вот на нас вероломно напали фашисты. Правда, некоторым людям казалось, что и эта война где-то там прогремит и утихнет. В самом деле, что такое немцы? -Да, были у них и псы-рыцари, были и Фридрихи. Не однажды наши войска ставили на колени Берлин, это логово преступной военщины. А теперь, смешно сказать, но только сошедший с ума мог решиться идти войной на нашу страну. Одна Украина имела больше населения, чем Германия. А Средняя Азия? А Кавказ? А Россия, над просторами которой даже солнцу прокатиться требуется четверть суток? Да мы их шапками забросаем! С японцами так не получилось, потому что война шла на море. То была война кораблей, а у японцев флот тогда был сильнее нашего.
Такие или подобные разговоры вели между собой студенты. Очень популярной стала песня: "Наша поступь тверда и врагу никогда... ". Но день спустя директор объявил, что занятия прекращаются на неопределенное время. Дня два еще то группами, то в одиночку студенты бродили по аудиториям, заходили в общежитие. Везде пустота и тоска.
Хаос.
Первое мероприятие властей - лишение своего народа всякой информации. Последовал строгий приказ всем жителям сдать радиоприемники, не сдавшие или утаившие радиоприемники будут подвергаться суду военного времени. Никто и не думал ослушаться такого приказа, а тут еще грозят полевым судом. Электричества тогда в селе не было, а значит, приемники были детекторные, самодельные. Кристаллы любители сами изготовляли. Но трудно было достать провода на приемник и на антенну, так что часто антенны ночами исчезали, приемников было мало, все они были зарегистрированы, так что процедура их изъятия прошла без хлопот. За хатой, в которой размещался сельсовет, поставили наковальню и уполномоченные парни плющили молотом коробки, наушники, рубили антенны и тут же бросали их в старый колодец. Справились с этим делом за один день. А после всего назначили на каждый куток (переулок) уполномоченного, чтобы каждому жителю дать расписаться о том, что он предупрежден, что за несдачу и утаивание приемника будет подвергнут полевому суду.
И мне пришлось пройтись по одному кутку с этим грязным поручением. Потом слонялся по двору, не зная, куда девать себя. Мама пропалывала грядку. Работы было много, но, видя мое душевное состояние, мама не понуждала к работе.
Как-то утром приходит снова посыльный из сельсовета: "Тебя вызывают, распишись... " Явился в сельсовет: "Идите в техникум к директору". Пришел. Во дворе много рабочих техникума, бухгалтер регистрировал разные техникумские материальные ценности и их утаскивали - одни в химкабинет, другие - в сарай, где директор держал личную дойную корову. Одни ценности должны были вывезти куда-то, другие, которые вывезти невозможно,- должны быть уничтожены! И директор Жадан руководил всей этой кутерьмой.
- Меня к Вам прислали...
- Ах, да! Батенька мой, иди в ботанический кабинет, там скажут, что делать.
Ботанический кабинет самый мой любимый. Здесь был балкон. Много разных цветов в горшках, которые поочередно цвели круглый год. На зиму же их заносили с балкона в кабинет. Теперь из кабинета вынесено все, кроме шкафов, в которых сохранялись микроскопы и другие необходимые для изучения ботаники вещи. Вместо столов и скамеек в ряды поставлены шесть кроватей. Между кроватями - тумбочки. В верхней половине шкафа выброшены атрибуты ботаники и размещены пакеты бинтов, вата, резиновые жгуты, разные планки для повязок при переломах, флаконы с йодом и другими лекарствами.
На подоконнике сидела молодая девушка, напротив нее на стуле - человек средних лет в военной форме. Я поздоровался. Военный что-то спросил, провел инструктаж, оставил напечатанную инструкцию и заставил меня расписаться, что инструкцию я получил. Потом попрощался и быстро ушел. С девушкой мы познакомились. Она сказала, что это был осовиахимовец из района и что он приезжал организовывать санитарный пост. Она же кончила в этом году медучилище, и это будет ее первая служба. Санпост предназначен давать раненым, потерпевшим от пожара и другим - первую помощь. Поскольку это военный пост, то и правила тут военные, никакого самовольства. Кто нас будет менять и сколько придется нам дежурить, мы не знали. Больше всего времени мы с девушкой проводили на балконе, откуда была видна улица.
Широкой центральной улицей, как неиссякаемая река, текли табуны лошадей, стада коров, отары овец. Уже две недели, как начался этот поток, и не прерывался ни днем, ни ночью. Рев, блеяние, хрюканье - невероятный шум. Лишь иногда поток животной массы прерывается колонной тракторов или машин, доверху груженных домашним скарбом. Это эвакуировались руководители колхозов и иная низшая знать... И снова - стада, стада, стада. Жара страшенная, пыль. Изможденные усталостью люди бросают стада, просятся покушать, отдохнуть, но в это время их стадо свиней или коров уходит в общем потоке и они машут рукой - догонять не будут. Там найдут, кому надо, а мы будем возвращаться домой, к детям.
Когда знойное солнце скрылось за пыльной тучей и наступила темень, к нам в кабинет зашел директор. Он принес стул из аудитории и, кряхтя, долго устраивался, ворочался в нем. Стул скрипел в такт его кряхтению. Наконец, он грузно вместился, тяжело вздохнул и затих.
Мы с Таней - так звали мою напарницу,- засветили две керосиновые лампы. Окна затемнили еще засветло, директор предложил мне выйти во двор посмотреть, не просачивается ли свет в какую-нибудь щель. Я было взялся за дверную ручку, но дверь открылась сама и в кабинет вошла сменщица Тани - Ольга. Она подтвердила, что света из окон не видно.
- Иван Терентьевич? - обратился я к директору,- а кто же меня будет менять?
- Ничего не могу сказать, пост, батенька мой, бросать не вздумай, помни - полевой суд.
- Ho я же умру с голода.
Он грузно поднялся и вышел из аудитории.
- Послушай, сходи, поужинай, а я побуду сама.
- А ты инструкцию читала?
Она прочла бумагу: "Ох, какая строгость, аж страх берет. Лучше уж поголодуем, чем подвергаться суду".
Дверь снова отворилась, и зашел директор. Он подал мне газетный сверток. Я застеснялся: "Нет, нет, я не буду".
- Садись и кушай,- приказал он строго. В свертке была пара яиц, кусочек сала и ломоть хлеба. Я быстро справился, ведь дома даже забыл, что такие вещи бывают. На тумбочке стояло ведро с кружкой. Я напился, а Иван Терентьевич снова уселся на свой стул. Темная вена на правой залысине согнутой пиявкой пересекала весь лоб до левой кустистой брови. Вблизи было видно, как натужно она пульсирует.
- Иван Терентьевич, скажите, как все это понимать? Нам же вдалбливали в голову, что мы непобедимы, что никакому врагу не под силу напасть на нашу страну. А тут угон скота, техники и другого говорит, что враг силен, что он воюют на нашей территории и что нашим приходится отступать.
- А вот так и понимайте. Это не вашего ума дело. Исполняйте, что Вам приказано, и не распускайте язык.
Он тяжело поднялся и, хлопнув дверью, вышел. Наступило неловкое молчание. Оля сказала: "Рассердился так, как будто острым каблуком на мозоль наступили. Не приучены к правде, вот и не в состоянии перенести правду".
Потом я вздремнул. Когда Оля меня разбудила, солнце взошло, и начался новый день. В девять утра меня сменили, и я пошел домой отсыпаться. А стада все шли и шли по дороге, поднимая удушливую пыль.
Вечером на смену поста я пришел раньше. Во дворе техникума все кипела работа. Грузовые машины еще раньше были взяты для военных нужд. Осталась одна старенькая полуторка. Ею и обслуживали техникум и подсобное хозяйство. И было еще два трактора. Машины и тракторы надо было гнать в тыл, куда-то за Днепр. Но горючего не хватало даже, чтобы выехать со двора. Вот и разбирали по винтикам полуторку и тракторы. Надстройка над ямой техникумовского туалета была сдвинута, куда и сбросили все части моторов и всю мелочь. Кузов же остался для неприятеля, в яму не вместился. Потонули в туалетной жиже и микроскопы. Между ними и недавно приобретенный за 25 тысяч микроскоп. И много иных ценных вещей поглотила туалетная яма.
С задней стороны здания между деревьями пылал огонь. Издали можно бы подумать, что палят здание техникума. Нет, это горели книги с тайного склада. Книги разных запрещенных авторов, врагов Советской власти, таких, как Тютюнник, Мильшеченко, Кулиш, Грушевский и десятки других, о которых я отродясь не слыхал. Но были там и старинные издания Пушкина, Даля, других известных литераторов, не почитавшихся в советское время.
Я любил читать, и сердце сжалось от жалости. Зачем уничтожать то, чего уже никак нельзя вернуть. Руководил этой "инквизицией" (иначе такое варварство и назвать нельзя) маленький, худой, черный человечек, преподаватель истории - буквоед и фанатик. Он от нас требовал заучивать тексты наизусть. И если студент протараторит весь текст не сбиваясь, он получал 5, а если сбивался и пропускал даже незначащие фразы и слова - то получал 3 или два. Студенты открыто ненавидели его и насмехались, дали ему прозвище "хрипящий скиф", потому что говорил он пискляво и хрипло. Но вот почему "скиф" - непонятно, не ведаю.
Тут же, конечно, присутствовал и уполномоченный района, очевидно, чекист. Он строго следил, чтобы ни одна книга не ушла в сторону. Носили книги из хранилища несколько парней непрерывно и бросали в кучу. Каждую их партию обильно смачивали керосином. Летели в огонь и архивные документы, бухгалтерские, хозяйственные и прочие бумаги. А керосином обливали из-за спешки. Надо было спалить все до наступления темноты. Хотя у нас еще не было ни самолетных полетов, ни каких иных происшествий, связанных с движением немецкой чумы, тем не менее, разводить в ночное время огонь, зажигать свет в избе с незатемненными окнами строго запрещалось. Какие богатства уничтожались - не только в нашем дворе и по селу, а по всей стране? За торбу набранных в поле колосков давали 8 лет, и вот сейчас уничтожают народное добро, приобретенное неоплачиваемым трудом полуголодного народа. Становилось от этого муторно, тошно, больно.
Я сменил своего напарника. Сменились и девушки. Сегодня дежурить прислали нашу местную медсестру. И вот что она мне рассказала.
Откуда-то сверху поступил приказ подобрать преданных людей, активистов, и обязать их уничтожать наполовину доспевшие хлеба в поле. Предназначенных для этого людей снабдить канистрами, керосином, спичками. Работу произвести в скором темпе, не более, чем за двое суток. Понимаешь, какой это драконовский приказ? Ведь дети, старики, женщины останутся. Не менее 70% населения - что им есть? Значит, их обрекают на голодную смерть. А ведь пока немцы придут, люди могли бы все убрать, растащить по домам и немцам ничего не оставить. Во время коллективизации люди научились прятать хлеб, и сейчас спрячут. Уничтожать хлеб могут только человеконенавистники.
Кучка активистов тайно собралась обсудить, как исполнить этот приказ. И решили: есть в селе природная умалишенная, есть еще пара отпетых пьяниц. Решили их подключить. Архипку, чтобы заинтересовался, одели в новый костюм, открыли банку консервов. Что же - внимание, одежда и щедрое угощение подействовали. Таким же образом, поодиночке, обработали и других, сообразно их характерам и наклонностям. Однако Архип всем показывал свой костюм и рассказывал о том, что ему обещали за то, чтобы он подпалил пшеницу в степи.
Сначала болтовню дурачка никто не слушал, но потом стало известно, что он таскал в поле канистру бензина или керосина. И тогда до сотни женщин побежали в поле, увлекая за собой еще большую толпу. Прибежали вовремя: Архипка уже готовился разбрызгать горючую жидкость. Как ураган налетели бабы на поджигателя. Схватили его и потащили в овраг, там раздели догола, вылили на костюм канистру и зажгли. Несколько женщин даже ухватывали его за ноги и руки, угрожая бросить в костер, но он слезно плакал, объясняя, что его обманули и что такие-то и такие говорили ему то-то и то-то.
Одна из женщин остановила других: "Бросьте его. Если он еще раз появится в поле, то сам в огне сгорит, а сейчас надо тех вредителей, что его уговорили, обуздать". И тут же они условились стеречь хлебные поля. Послали делегацию из самых бойких женщин к руководству. И они тем прямо заявили: если сгорит хоть по одному гектару, будут в огне гореть их дети и жены. Тройку других поджигателей тоже обезвредили, они отделались сильными побоями и поклялись никогда не слушать людей, желающих народу голода и лишений.
Просто удивительно, как люто женщины защищали свой хлеб, свой труд, как выявили необыкновенную организованность. Сами разделили поле на участки для каждой и выжали хлеб, повязали и на плечах перетаскали домой. И можно сказать, что на весь период войны обеспечили детей куском хлеба. А если бы нелюдям удалось сделать свое черное дело, спалить хлеб, то жертв в войне было бы еще больше за счет сгинувших от голода.
Всю эту ночь директор сидел в углу возле тумбочки и беспрерывно смотрел в верхний угол кабинета. Свою позу он менял только, чтобы подписать очередному студенту справку.
Студенты старших курсов получили мобилизационные повестки. Целую ночь на первом этаже в канцелярии выписывали справки, и получившему ее приходилось подниматься на второй этаж, в санпост, чтобы директор заверил ее. Почему директор сидел все ночи на посту, и почему он был устроен на втором этаже, для меня так и осталось загадкой. Ведь на первом этаже было много подходящих аудиторий. И ведь проще раненого занести в помещение на первом этаже, чем подниматься с ношей по крутым лестницам?
Царившая кругом тревога все усиливалась. И вот за справками пошли и мои одногодки. Я чувствовал, что и мне придется собираться в дорогу. Несколько раз я обращался к директору, чтобы он отпустил, но на мои просьбы он отвечал тем же: "Это военный пост. Если желаете попасть под полевой суд - идите, а отпустить Вас я не могу".
И вот на рассвете в нашу аудиторию вошла моя сестра Маруся. По щекам ее текли слезы. Мое полудремотное состояние сразу превратилось в рывок, я подбежал и взял из рук ее бумажку, поднес к лампе на тумбочке, прочитал: "Повестка. Явиться в 7 часов утра к сельсовету. При себе иметь кружку, ложку, две пары белья, на три дня продуктов".
Обратился к директору: "Говорил же - отпустите. Без двадцати семь, а мне надо уже в семь".
- Беги,- не меняя позы, ответил директор, и мы с Марусей побежали домой огородами, чтобы сократить путь.
Мама в ту пору лежала в постели и вся дрожала нервной дрожью. Она не могла ни подняться, ни говорить, Ведь только что прошли слухи о том, что все служившие на границе, в том числе и мой старший брат, погибли, а тут берут еще и меня, последнюю надежду.
Но что же делать? Мешкать некогда. Ну, белья у меня и одной пары не было, кружка - одна на всю семью. Сумки нет. Ложка куда-то запропастилась.
Маленькие сестры сидят у постели мамы. Испуганные, не поймут, что происходит. На столе лежал кусочек коржа, и Маруся засунула его мне в карман, но я незаметно положил его обратно. Так, ни с кем и не простившись, я ушел. Но забежал по дороге к тетке сказать, что я ухожу, и чтобы она присмотрела за больной мамой. Теткина дочь и моя двоюродная сестра Мария по возрасту была мне как тетя. Пока тетя изливала мне свои сожалеющие причитания, Мария действовала: отрезала кусок полотна, на ножной зингеровской машинке сшила торбу, к ней из фитиля приделала лямки, положила туда кружку, ложку, краюху хлеба и несколько луковиц. Я поблагодарил теток и с таким импровизированным вещмешком на плечах побежал что есть духу на сбор в центр села.
Дорога в неизвестность. Мамо, я вернусь.
 Прибежав к сельсовету, я увидел уже пустую площадь, ни души. По
правде, я и не надеялся застать команду, раз в повестке обозначено "в семь", а
сейчас уже почти девять. Ушли они, значит, давно, и надо
догонять. Я повернул на бульвар - там хорошо утоптанная дорожка, ею будет легко
бежать. Огибая первые деревья, мой путь шел налево, а я мельком посмотрел
направо и... увидел. Опершись на первое дерево, стояла мама - и не могла окликнуть
меня. Только вытянутые вперед руки и испуганные глаза выражали страх, что я не
замечу ее и пройду, не простившись. После краткого оцепенения я бросился к
ней:
Прибежав к сельсовету, я увидел уже пустую площадь, ни души. По
правде, я и не надеялся застать команду, раз в повестке обозначено "в семь", а
сейчас уже почти девять. Ушли они, значит, давно, и надо
догонять. Я повернул на бульвар - там хорошо утоптанная дорожка, ею будет легко
бежать. Огибая первые деревья, мой путь шел налево, а я мельком посмотрел
направо и... увидел. Опершись на первое дерево, стояла мама - и не могла окликнуть
меня. Только вытянутые вперед руки и испуганные глаза выражали страх, что я не
замечу ее и пройду, не простившись. После краткого оцепенения я бросился к
ней:
- Мамо! Зачем Вы встали с постели? Как Вы сюда дошли?
На мои вопросы и увещевания она ничего не отвечала. Обняв за шею, прижалась ко мне. Тело ее дрожало. Я ждал, когда она разомкнет объятие. Проходили минуты, а она все держала меня. И я понял, что она меня никогда не отпустит. Тогда сам расцепил ее руки, отступил на шаг и стал уговаривать:
- Мамо, видите, все уже пошли, и мне надо идти. Такое время - все идут. Мамо, идите домой, я опаздываю, надо догонять... - Она молчала. Я взял ее за плечи, близко наклонился к ее лицу и, глядя в глаза, твердо и уверенно сказал: - Мамо, я вернусь...
Прислонил ее к дереву и не спеша пошел по бульвару. Я боялся оглянуться, а в мозгу сверлило: стоит или упала? Если оглянусь, а она упала, то надо будет возвращаться. Пусть расстрел, но я ее не брошу, пока она не выйдет из такого критического состояния. И только за поворотом я оглянулся. Место, где стояла мама - заслонили деревья. Всю дорогу до райцентра я бежал и мучился вопросом: "Упала или устояла?"
В райцентре двор у военкомата был заполнен ребятами. Собрали 170 человек 1923-25 годов рождения - не военнообязанных, но подлежащих эвакуации в тыл. Я нашел своих односельчан, и узнал, что пришли они сюда час назад. Возле сельсовета никто не проверял, явился кто или нет. Просто дождались половины восьмого, учитель физкультуры их построил и скомандовал: "Шагом марш!" Кто не явился, сам догонит. Мое беспокойство прошло.
Через два часа после моего прихода нас построили на небольшой дворовой площадке. Здесь уже наличие мобилизованных проверяли по списку, отсутствующих отмечали. Потом какой-то военный прочитал нам напутственную речь. О том, что хотя мы еще и не военнообязанные, но надо держать воинскую дисциплину и проступки каждого будут наказываться так же строго, как и военнообязанных, и про долг перед Родиной. Ура - отцу, дорогому учителю и вождю!
Потом нам представили командира и медсестру, которые и будут нас сопровождать до места назначения. "Место же назначения узнаете, когда будете на месте". Командиром был назначен худой, болезненного вида человек лет 45-ти. Командирская фуражка сидела на голове, как блин. Худое желтое лицо под фуражкой суживалось и острым подбородком входило в воротник непомерно длинной комсоставской шинели. Звание его равнялось теперешнему капитану. Оказалось потом, что он был болен сильно прогрессирующим туберкулезом. Медицинская сестра была молодой девушкой средней упитанности с очень толстыми ногами. Ее чулки с первого взгляда казались валенками. В военной фуфайке, на голове ее берет, вот и весь портрет.
Командир, так будем его звать, построил колонну в 170 человек по трое, потому что улица была запружена беженцами, повозками, тракторами, стадами. Длинной веревочкой растянулась наша команда. Особенно тесно в населенных пунктах. В степи же командир выстраивал нас уже по четыре в ряд. Мы отходили метров 100-200 от дороги и двигались параллельно ей по свекле, пшенице и другим полям, изрядно выбитых и потолоченных проходящими стадами.
На обочине - трупы павших животных: коров, овец, свиней. Приторной вонью они душили нас с самого начала пути до самого Днепра. Жара сильно способствовала быстрому разложению трупов. Но никому до них нет дела, все спешат к Днепру. Кроме животных трупов во всех оврагах полно сброшенных тракторов, много стояло их с поврежденными моторами, разбитыми баками для горючего и на обочинах дорог. Ведь как только кончалось в баке горючее, кончался и путь трактора, он становился трупом, как те животные, которые не вынесли длинного пути без отдыха и корма, особенно, без воды. Чем ближе к Днепру, тем поток беженцев расширялся, но тем тише становилось его движение. Иногда заторы где-то впереди останавливали движение более чем на 5 часов. Все перемешалось: стада, повозки, груженные домашними пожитками и детьми, машины-полуторки (других и не было), груженные всем, вплоть до живых курей или гусей (это все эвакуировали на восток партийные чины).
Часто повторялись случаи насилия: кончается горючее, машина глохнет, ее хозяева вступают в переговоры с хозяевами других машин. Но поделиться горючим, даже если и есть небольшой запас - никто не желал, конечно, тогда, тогда верх брало старшинство и нахальство. Но больше всего страдали от отсутствия бензина хозяева повозок. Их барахло и детей просто сбрасывали на дорогу, с машины свое барахло перекладывали на повозку и ехали далее.
Между гражданскими попадались и военные. Они шли группами по полтора или два десятка человек, а иногда и в одиночку. Все они имели жалкий вид, худые, обросшие щетиной, в грязной и дырявой форме, сквозь дыры которой виднелись худые грязные тела. Одним винтовки без патронов сложили взамен костыля, другие и без винтовок еле волочили ноги...
Пришлось наблюдать и такую картину. Группа из шести солдат, чередуясь, несла на носилках своего боевого товарища. Трудный у них был путь - в жаре и пыли, с пересохшими от жажды глотками, да еще с тяжелой ношей. Силы их истощились.
Вот они сошли с дороги, поставили носилки и сами прилегли на пыльную землю.
- Слушай, командир! Долго мы будем мучить себя и больного? Мы не верблюды, сил больше нет. - Что же ты предлагаешь? - А предлагаю реквизировать одну из повозок. Ведь удирают, сволочи, с барахлом боятся расстаться, а мы должны на руках больного таскать... - Твоя правда. Лошади и повозки государственные, почему же их используют в личных целях? (Командиру, изнуренному и проголодавшемуся, возражать не было ни сил, ни охоты.) - Хорошо, действуйте, только без лишнего шума.
Неподалеку стояло пять повозок, груженных мешками, подушками, кадушками и прочим хламом. Мужчины подкармливали лошадей, а женщины с детьми сидели вокруг простыни с провизией, кушали. Солдаты поздоровались с ними и предложили освободить одну повозку под раненых и больных. Бросив еду, женщины и дети сбежались к повозкам. Начался крик, вой, причитания, проклятия. В этих семьях были и мужики - большие парни и дядьки. И отцы, и сыночки их с дочками - сильные, холеные. Дядьки завязали с солдатами силовую борьбу, и жены их с дочерьми начали бить, чем попало под руку.
Конечно, шестеро изможденных обессилевших солдат не могли справиться с полутора десятком дюжих дядь, теть и их взрослых чад. Но группки солдат все подходили и ввязывались в борьбу, чтобы помочь своим товарищам. И вот - Ура! Солдаты победили! С повозок полетели продукты - сало, мед, сахар... Но вот полетели с повозки и два лантуха (мешка), набитые под завязку. Случайно один развязался, и из него посыпались синие бумажки... Никогда не видел столько денег! Ветер подхватил их и наделал синюю метелицу. Густо покрыл ими площадь, что-то в полтора гектара. Все перестали сопротивляться солдатам и бросились собирать деньги. Мы как раз и застали их за этим занятием. Солдаты же положили на повозку носилки с раненым и медленно двинулись в путь.
* * *
Мост через Днепр еще неизвестно где, а движение почти не ощущается, топчемся на месте. От распухших ног обувь лопается по швам. Многие падают в обморок и умирают, мешаясь под ногами. Их топчут, как тряпку. Лишь за полночь нашей команде удалось вступить на мост через Днепр. Пройдя полтора километра по узкому дощатому настилу, снова ощутили землю. Ну вот - самый тяжелый участок пути позади. Масса двигалась к мосту, как будто вырывалась из жесткого мешка, а зато за ним - разжижалась и растворялась в пространстве.
Наши команды отошли от места. Не отдаляясь далеко от реки, нашли свободную площадку между вербами и верболазом, улеглись на траву и задрали вверх измученные ноги, чтобы сошел отек. Днепровской водой утоляли жажду. И хотя комары целую ночь аппетитно и беспрепятственно сосали кровь, спали все, как убитые.
От Днепра и дальше.
Природа Левобережной Украины чуть отличается от Правобережной. Там нет больших бугров и глубоких долин, как на Правобережье. Местность - равнинная, напоминает сухие луга правобережных долин. Но луга эти делают ландшафт каким-то мягким, уютным, легким.
Утром писклявый хриплый голос командира возвестил о подъеме. Потом ребята расталкивали друг дружку. Просыпаясь, каждый вскакивал. От сырой прохлады дрожало тело.
Солнце поднялось выше деревьев. Всей командой пошли к реке. Кто умывался, а некоторые смельчаки разделись и даже мылись в холодной воде. Ночью, когда шли через мост, реки не видели. А вот сейчас прямо дух захватывает, какая большая река Днепр! Правого нашего родного берега так и не видно. И откуда столько воды берегся?
После туалета, рассевшись по двое-трое, ребята развязывали торбы. Но там, в основном, были хлебные крошки. Все чувствовали голод. Явился командир со своей наложницей-медсестрой. Скомандовал строиться. Двум крепким ребятам он приказал выйти из строя. Это были рослые молодцы, третьекурсники Кузьма и Чирва. Командир назвал их ответственными за кормление всей команды. Он снабдил их специальной бумагой, чтобы идти по маршруту вперед на сутки и заказывать для команды на столько-то человек обед, a в следующем пункте, где предполагался ночлег,- они заказывали ужин. Придумано это было хорошо, и команда почти не теряла время на кормление.
Чирва и Кузьма отправились выполнять данное им поручение. При проверке оказалось, что16 человек отстали или затерялись в людском половодье. Оставшихся 154 человека командир разделил на две части, потом рукой показал: это будет первый взвод колонны, а это - второй. Командиром первого взвода был назначен учитель, старше каждого из нас на 5 лет. Его должны были взять в армию, но какая-то броня отсрочила этот призыв, и потому он шел с нами.
Командиром второго взвода почему-то назначил меня, хотя я ни ростом, ни чем иным из общей массы не выделялся. Были парни рослее меня. Мне пришлось идти вместе с парнем из соседнего села - Зосимом. Несмотря на невзгоды походной жизни, он не жаловался, наоборот, только подшучивал. Я отвечал тем же, и мы незаметно сдружились.
Он, как и я, полагал, что легче всего идти в голове колонны, и потому мы так шли всегда. Приходим первыми. Часа два или три пройдет, пока стянется вся колонна. Они ложатся, чтобы дать отдых ногам, а мы - уже отдохнули, и посмотрели, если есть что интересное. Наверное, командир заметил это и расценил по-своему. Конечно, командирами мы были только символическими. Утром колонна строилась, и некоторое время шли строем, но постепенно растягивались, и строй исчезал. Когда первые уже отдыхали на месте, то задние еще только плелись в 5-ти км от назначенного пункта.
Пунктами кормления были колхозы. Кормились мы два раза в день, но наедались вволю. Борщ со свининой или говядиной. Каждому попадало по крупному куску мяса. На второе - макароны с котлетой. Были и другие блюда, но всегда хорошо приготовленные и сытные.
Но давало знать и утомление. Особенно досаждала обувь. Многие ребята шли босиком, потому что обувка их распалась. А те, кто еще имел на ногах ботинки, понатирали себе кровавые мозоли. Многие от загноившихся ран не могли идти ни босиком, ни обутыми, отставали и где-то терялись.
В преддверии Донбасса пришлось проходить нам около поселка Петропавловка. Ребята от кого-то узнали, что здесь станция, а значит, есть железная дорога. В 8 часов утра мы подошли к станции и расположились в небольшом вишневом садике.
Вишневые деревья беспорядочно росли на бугорке, обрамляли небольшую низменность, поросшую густой низкой травкой. Остановились мы здесь потому, что ночевать пришлось где-то в рабочем поселке, а это был не колхоз, кормить нас не хотели или не имели возможности, потому ночевать пришлось на пустой желудок. Конечно, оставшиеся без ужина ребята были недовольны. Сюда, в садик, часов в 8 прикатила одноконная телега. Женщина и мужчина начали выдавать нам завтрак - по четырехугольному, величиной с ладонь и толщиной в палец, ломтю вроде сыра. Но оказалось - не сыр, а брынза. В наших краях колхоз овец содержал ради шерсти и мяса, но их никогда не доили, а о таком продукте, как брынза, мы услыхали впервые.
Ребята откусывали, даже не успев разжевать, с отвращением выплевывали. Я тоже попробовал, но брынза до того была соленая, что не было никакого терпения держать ее во рту, так хотелось ополоснуться. В общем, полное разочарование голодному желудку. Что с ней делать? Ребята стали ломать ее на куски и бросаться друг в друга. Вскоре вся поляна забелела брынзой, как будто выпал негаданно снег. Конечно, был общий ропот, и как-то все разом решили больше пешком не идти.
Но вот явился командир с медсестрой. Увидев землю, усеянную завтраками, он сказал только: "Да, сильно соленая... " А потом: "Становись строиться!" Встал учитель, рядом с ним встал я, как назначенные взводные. За нами должны встать и все остальные. Но никто из ребят не встал, как будто команда к ним и не относилась... Они продолжали бросаться брынзой. На желтом лице командира, на его скулах появились два красных пятна, что показывало: его свирепость дошла до высшей точки. Он повторил свое требование. В ответ раздались возгласы, что нужен поезд, что из садика пешком не пойдем. Но кто именно выкрикивал, понять никак было нельзя.
- Ну что ж, тогда я вам покажу, - в бешенстве пропищал он и куда-то исчез.
Солнце поднялось выше деревьев и утреннюю свежесть сменило ласковое тепло. Где-то щебетали птицы, за кусочек брынзы дрались шумно взъерошенные воробьи. Всем было весело. И никто из ребят не обратил внимание на появившуюся вдруг рядом телегу, с которой двое мужчин сбросили какой-то столб с перекладиной наверху. Также никто не обращал внимание, как они молча выкопали яму и поставили в небо столб между двумя вишневыми деревьями, но много выше их. Потом телега эта остановилась неподалеку и ездовой, наклоняясь, задремал.
Внимание наше привлекло только новое появление командира с медсестрой и тремя мужчинами в синих диагоналевых формах с красными кантами на галифе. Они остановились возле откуда-то появившегося посреди нашей луговины стола. Последовала команда:
- Командиры взводов, построить команду!
Я и этот злосчастный учитель стали рядом, скомандовали:
- Становись строиться!
И все стали за нами в две шеренги.
- Смирно! На-ле-во! Командиры взводов - к столу!
Мы подбежали. Один в форме, наверное, старший среди них, обратился ко мне: "Кто в твоем взводе занялся агитацией? Кто изменяет Родине, кто не желает дальше идти?" Он наклонился ко мне всем корпусом, опершись в середину стола руками. Коричневые глаза метали искры, зубы оскалились - я испугался, как будто он сейчас бросится меня грызть и, дрожа от страха, залепетал, что в моем взводе никто не агитирует, все хотят поскорее придти на место...
Тот, не дослушав меня, обернулся и набросился на учителя: " У тебя кто? Нет, ты пойди и укажи пальцем подлеца, быстро!"
Тот побежал к строю, в первой шеренге которого был его взвод. Подошел к худому, среднего роста, с лицом, покрытым рыжими пятнами, парню и дотронулся пальцем до его груди: "Этот!"
Мы не понимали, что творится. Этот парень был земляком Зосима, он его хорошо знал - тихий, спокойный, от него никто и слова не слыхивал. Никто с ним не заводил дружбы, он тоже никому не навязывался и был одинок. Ясно, что он-то уж точно даже звука не произносил о своем желании или нежелании. Да никто, собственно, никого и не агитировал. Просто захотели, чтоб посадили нас на поезд, и кончилось это мучение. Но рыжего вывели к столу и поставили немного в сторонке.
Один из тройки вынул из папки бумагу и начал читать всем стоящим по команде "смирно": "Именем... за измену Родине - к высшей мере - через повешение". Все мы слушали и не верили, ожидая, что скоро спектакль этот кончится и придется топать на голодный желудок пешком.
После прочтения протокола рыжего поставили на телегу, стоявшую прямо под виселицей. И только когда на шею жертвы набросили петлю, телега отъехала, и тело стало корчиться в судорогах, а глаза вылезли из глазниц, с отвисшей нижней челюсти вывалился язык, только тогда дошло до сознания парней, что происходит. Некоторые из ребят бросились наутек. Но властный окрик вешателя возвратил их на место. Наверное, они намечали еще толкнуть краткую речь в поучение, но увидели, что довели по сути детей до шокового состояния, и решили на этом кончить. Посовещавшись с "Щучьей мордой" (такое прозвище ребята дали нашему командиру), они расстались, после чего он скомандовал просто: "Шагом марш!", и колонна двинулась дальше.
Не прошли и километра, как строй исчез. Шли, растянувшись во всю длину дороги, которую только вмещал взор. Тогда Щучья Морда приказал мне быть не в голове колонны, а позади, и не допускать исчезновения отстающих. И раньше наш командир вызывал к себе антипатию ребят, а после случившегося буквально у всех он вызывал омерзение, как дохлая собака, покрытая гнилыми чирьями. По разговорам ребят мне казалось, что его на ночлеге обязательно прикончат. Ведь все сознавали, что Рыжий ни в чем не виноват, что такая жестокость совсем не была необходимостью. Если бы нам разъяснили, что поезда загружены, и ехать нам нет возможности, все пошли бы, как и раньше.
Нет, был дан урок - все поняли, что для власть имущих человек не более как козявка, которою по прихоти можно раздавить каблуком и без всяких угрызений совести (да, где у них совесть?). Около десятка ребят просто физически не могли двигаться. Ноги у них покрылись язвами, на пятках подошв образовались гнойные нарывы. У необутых пыль и грязь набивалась в раны, что болезненно отражалось на всем организме. У медсестры сумка давно была пуста. Бинты, марля, мази, йод, марганцовка - давно было истрачено и нечем было помочь больным. По пути она пробовала добыть нужные средства для подачи помощи больным. Но аптеки требовали наличные деньги, которыми она не располагала. Что-то получить через властей - все равно, что пролезть через ушко иголки.
Прошли совсем немного, и снова ребята в изнеможении присаживаются. А я - рядом с ними. Они роптали: "Взамен вешания лучше бы добыл телегу, ведь совсем нельзя идти, хоть ползи на коленях". Но эти жалобы ни к чему не приводили, только ослабляли силы.
Так шел день и другой, когда я был в роли поддержателя или увещевателя, не понимая своей задачи. Плестись в конце километров на пять от головы идущих мне надоело, да и польза мала. Потому я пошел вперед, все более оставляя ребят позади себя. Солнце перевалило точку зенита, и жар усилился. Воздух застыл как стекло, хотя бы туча какая нашла...
Пройдя ускоренным шагом часа полтора, я увидел на дороге густую толпу людей: "Что там, ребята?" -" А черт его знает. Дойдем - увидим." Гонимый любопытством, я пошел еще быстрее, но не успел вовремя. От толпы наших ребят отделилась телега с двумя женщинами и мужчиной. Подойдя еще ближе, узнал следующее:
После случая у Петропавловки мой односельчанин Василий все время старался держаться вблизи учителя. И, выбрав момент, когда возле никого не было (ребята старались держаться подальше от гада-учителя) Василий приблизился и, ни слова не говоря, загнал нож ниже пуповины и взрезал к груди. Учитель свалился на пыльную дорогу. Василий же отер лезвие ножа о траву, сложил и положил в карман. Оглянувшись на лежащего, сказал: "Что, собака, заработал, то и получил" - и скрылся в кукурузных высоких стеблях.
Василия я раньше видел в селе, но никаких контактов с ним не имел. Он был стройный, высокий парень, крепкого телосложения, но имел и физический недостаток - всё лицо в крупных угрях, что снижало симпатию к нему
Только после войны я узнал, что он провоевал три года (первый год его в армию не взяли, и он работал на уральском заводе), имел много наград, но погиб в последний день войны при взятии Берлина. О том его отцу дяде Мише пришла повестка. Судьба учителя неизвестна, задеты ли были у него кишки, выжил ли он. Навряд ли. Командир же войну пережил, после нее подхватил венерическую болезнь, запустил ее, да и лекарств не было. В общем - повесился он.
Конец пешего пути и трудоустройство
. Ещё несколько суток пути. Последний день обедали в рабочей столовой хлебом и тушеной капустой в собственном соку. Не очень вкусно и малопитательно. Но ели мы с аппетитом, нажимая на хлеб. Потом опять шли, и в полной темени остановились перед серым хмурым зданием с вывеской над дверьми: "Клуб". Немного потоптались в темноте. Хотелось отдыха. Наконец, клуб отворили, и мы всей гурьбой ввалились в помещение.
Здание это ничем не отличалось от сельских клубов, разве что было попросторнее. Ребята занимали места и укладывались спать на скамейках. В пути мы уже ночевали в клубах или школах. Каждый брал себе ком соломы и делал из него постель. Но здесь соломы было взять негде и темно, чтобы искать какую-нибудь подстилку. Большинство ребят - в одних рубахах, без жакетов, а лавки твердые и под утро пробирает дрожь.
А утром прошли только несколько кварталов с поворотами то направо, то налево. Наконец, остановились перед законченным четырехэтажным зданием, что нас удивляло. Многое для нас тут было диковинным: громадные здания, трамваи - будки с окнами на рельсах в городе бегают и битком набиты людьми, одни входят, другие выходят. Покататься бы в ней, да там, видно, и дождь нестрашен.
А то утро было хмурым, моросил дождь. Нам сказали располагаться возле здания, кто где найдет место, и ждать. Но дождь усилился, мы промокли до нитки и дрожали от холода, но никто к нам не выходил. Окоченевшие ребята ругались самой площадной бранью, но легче от нее не становилось - ведь спрятаться от дождя негде.
Оказывается, мы свалились на голову здешнего начальства, как снег среди лета, и оно никак не могло решить, что с нами делать, куда девать? - Наступал вечер. Заходим в здание, отворяем двери кабинетов и спрашиваем, до каких пор будут над нами издеваться?
- Вы не по тому адресу. Ваш вопрос нас не касается.
- А где же тот адрес, чтобы касалось?
- А откуда мы знаем, у нас свои дела...
Темнело. Вдруг подъехало несколько полуторок.
- Эй, новобранцы, садись по машинам!
И все повзбирались в кузова, мешая друг другу.
Переполненные машины двинулись в путь. Мы узнали, что город этот называется Сталино, а везут нас в г.Макеевку, это недалеко.
Сколько времени и куда мы ехали, никто уже не беспокоился. Те, что висели на бортах, боролись, чтобы им не выпасть, а те, кто был в середине кузова, старались, чтобы им чего не выдавили. Но, наконец, и это испытание кончилось. Нас подвезли к длинному одноэтажному зданию, похожему на колхозный коровник. Открылась дверь, и мы увидели чудо.
В середине потолка в одну линию висели электрические лампы, они как солнце сияли ярким светом. А во всю длину помещения стояли кровати. Возле каждой из них - тумбочка. Между кроватями метра полтора шириной проход от двери. На одной стене ближе к потолку висела черная тарелка. Она дрожала и лила то хриплую песню, то музыку. Чудеса!
Ребята бросились занимать кровати. Я занял вторую от двери. Потом нам выдали по ломтю хлеба и по половине селедки, кому что попало - кому хвост, а кому голова. Это было очень кстати, потому что оголодали все, как волки, селедка казалась очень вкусной и шла в дело с костями.
Однако ложиться на кровати, за которыми каждый из нас давно заскучал, не пришлось. Приказали нам выстроиться на проходе между коек. Здесь появилась Щучья Морда. Пространства было достаточно, чтобы построиться в три ряда. Нас окликали по списку. Выяснилось, что до места назначения дошло 94 человека. 76 человек рассеялись на пятисоткилометровом пути.
После же проверки нас повели в клуб, но не для спектакля. На сцене за столом сидело городское руководство и "покупатели". Последних было негусто, да и те, наверное, явились сюда по приказу. Да и кому нужна такая обуза в это время? Говорились речи о войне и патриотизме, о том, как "родной отец" не спит и не ест, заботясь о наших нуждах, и прочую муру говорили. Конечно, никто особенно не вслушивался в эту болтовню. От нас поднималась испарина. Высыхая, одежда отнимала тепло у тела, и нас тряс озноб. Хотелось скорее лечь в кровать и завернуться в одеяло, согреться, а тут...
Мнe и другому парню, что стал командиром 1-го взвода после катастрофы с учителем, Рыбья Морда объявил благодарность, не жалея красок о хорошем поведении, дисциплинированности и исполнительности. Просто ангелы. А мне было тошно слушать эти дифирамбы от убийцы, бессильное зло наполняло душу.
По окончанию митинга три покупателя распределили нас между собой. Все они были представители Макстроя. Нас двоих взял к себе начальник телефонной станции Макстроя. Остальных по принуждению взяли бригадиры строительных бригад.
Линейные мастера.
Пошли мы с напарником на работу раньше остальных. Да и подстегивало любопытство: неужели нас за телефоны посадят?
У здания телефонной станции нас встретил тот самый дядя, что брал нас на митинге. Чуть ниже среднего роста, с темным волосом, курчавящемся на голове, он имел широкие кустистые брови, сросшиеся на переносице, и карие глаза. Это был умный, хороший человек, всегда заботившийся о своих подопечных. Он познакомил нас с телефонной станцией. Сначала завел в коммутаторскую. На всю длину стены комнаты, как бы вдавленный в стену, стоял коммутатор, поделенный темными полосами на восемь участков по полметра шириной. На каждом участке густыми рядами помещались гнезда для штепселей. Восемь девушек сидели перед коммутатором в наушниках и, как на клавишах, то втыкали, то выдергивали штепсели из гнезд и переговаривались с кем-то невидимым. Они так быстро работали, что уследить за движениями их рук не было никакой возможности. И у меня сжалось сердце: неужели и я бы смог вот так работать? Потом вывели нас во двор. Там стояла небольшая, метра на три, вышка, на дощатой площадке которой находилась крытая будка. По лестнице мы взобрались туда. Начальник открыл дверь и пригласил зайти в будку.
- А это - сказал он,- помещение, чтобы узнавать, где произошел разрыв провода или какая другая неисправность линии. Это как контроль над работой линии. Вот видите - царство предохранителей.
Потом мы зашли в просторное подвальное помещение под телефонной станцией. Здесь на больших полках лежало множество телефонных аппаратов, трубок, мотков проволоки, разные инструменты, поясные ремни, полевые телефоны, "кошки" и много другого добра...
- А вот, ребята, и ваши учителя, - сказал начальник.- Идите, кто с кем пожелает, а после работы поговорим.
Дед Рак предложил мне идти с ним. Нам дали пояса с довольно тяжелой цепью, кошки для лазанья по столбам, полевой телефон, плоскогубцы, резиновые перчатки, солидный моток телефонной проволоки. Когда моя маленькая и тощая фигура была обвешена всеми этими атрибутами, дед Рак осмотрел меня и иронически утвердил: "Вот теперь ты линейный мастер!" Потом он сам подвязался поясом, взял свои кошки, и мы вышли в город. Провода были проржавлены и часто обрывались, падали на другие провода, нарушая связь во многих точках. А военное время требовало четкой беспрерывной связи. Устраняя повреждения, дед Рак попутно учил меня, как найти место порыва линии, как соединить провода, чтобы крепление было "намертво", как лазить по столбам по узкому пространству между траверзами. Учил он и устройству телефонного аппарата, какие бывают в нем поломки и как их устранять. Наука эта несложная, и я быстро ее усвоил. Ведь с детства со своими сверстниками лазил по деревьям без сучьев и с гладкими стволами - забирались до самой макушки без кошек и ремня.
Дед Рак радовался моим успехам и не терял случая похвалить меня телефонистам и самому начальнику. Работы было много, и за 8 часов я очень уставал, но работа мне нравилась, дед Рак был веселым человеком, его никогда не покидало чувство юмора. Работать с таким человеком было просто приятно.
Вечером Яворщук (фамилия начальника станции) разъяснил нам, какое положение сложилось со связью: всех мобилизовали, на работу взять некого. Связь должна работать, как часы. И потому он просил нас не убегать: "Я хорошо понимаю, что вы соскучились по матерям и вообще по родным, что вам хочется домой, но верьте моему слову: если появится случай, чтобы вы могли беспрепятственно вернуться домой - я помогу вам". Здесь он, конечно, хитрил. Но я пообещал, что буду работать, как смогу, а если придется уйти, то заранее сообщу ему. Напарник же мой промолчал, со мной он тоже не откровенничал, только вскользь заметил, что ему опасно лазить по столбам - голова кружится. Потом уже я узнал, что уже тогда он планировал свои действия со своими односельчанами.
К трем часам дня мы ликвидировали все неисправности и пошли в общежитие. Там было пусто, только хозяйничала уборщица тетя Катя. Ужинать сегодня будем по талону, а завтра нам обещали выдать аванс. Оказывается, мы будем работать на ставке. Вечером снова поужинали капустным супом, но, слава Богу, хоть дали вволю хлеба. Улеглись на койки. Ребята рассказывают, кто что делал: одни таскали кирпич на спине, на четвертый этаж, другие таскали туда же цементный раствор в ящиках, сделанных, как носилки, третьи чистили кирпичом кровельное железо от ржавчины,четвёртые грузили кирпичную крошку на полуторки... Всем им разъяснили, какие нормы выработки и сколько за норму полагается денег. Например, за квадратный метр крыши, очищенной от ржавчины кирпичом, платили 4 копейки. Все подсчитывали, сколько они заработали за день. Оказывается, заработали от 60 копеек за день до рубля 25 копеек. Но чтобы только прокормиться, нужно зарабатывать не менее трех рублей в день, и то впроголодь. Вот какая оказалась житейская арифметика.
На второй день вечером без хозяев остались семь кроватей. На третий день половина общежития была уже свободной. Ушел и мой напарник по телефонной со своими односельчанами. В конце четвертого дня в общежитие явились только трое: я, Иван по прозвищу Белый, т.к. имел действительно белые волосы, и брови были почти незаметны, а белые ресницы были точь в точь, как у поросенка. Да еще посреди носа была у него вмятина от травмы, так что вид его не очень привлекал к себе, и он не имел друзей. Он бы тоже ушел со своими, но все уговаривались в узком кругу, а до него эти переговоры не доходили. Раньше я никогда с ним не встречался, хотя и жили мы в одном селе. А теперь обстоятельства привели к знакомству. И, наконец, третьим оставался белорус Митька, старше нас на два года и неизвестно как попавший в наше общежитие.
Я лежал на кровати. Приятно было полежать после лазания по столбам с тяжелыми кошками. На стене хрипела черная тарелка. Диктор сообщил о взятии немцами некоторых городов на Западе. Иван сел возле моей кровати:
- Ты слышишь? До нашего района немцам далеко. Радио вон говорит, что дальше немец не пройдет, значит, у нас он не будет, потому можно возвращаться домой. Я слышал, как ребята говорили, что уйдут, и я надеялся уйти с ними, но не думал, что они уйдут прямо с работы. Не уследил, когда они ушли. Давай и мы завтра до восхода солнца уйдем, чтобы, когда станет светло, мы были уже где-то в степи?
- Нет, мне Иван и Кузьма с Чирвой предлагали уйти вместе, и Зосим с Павлом, и другие ребята, но я не ушел, и уходить не собираюсь. Ну, придем мы домой и, даже если немцев не будет, то узнают свои, и еще кто знает, как они поступят? - намекнул я на повешение в Петропавловке. - Военное время, нянчиться никто не будет. А для чего нас гнали сюда? Для физкультуры, по-твоему? Нет, Иван, никуда я не пойду, пока имею такую работу, коллектив, который при нужде поможет. А скитаться в такое время без документов, без какой-либо поддержки, я не хочу.
- А что мне делать? Один я идти боюсь, оставаться здесь - не выдержу той работы и ничего не заработаю, придется сдыхать с голода.
- Хочешь, будем работать вместе? Работа тяжеловата, но, думаю, втянемся, и не на одном месте, а ходить по городу. Интересно, а главное - рабочая ставка!
- А меня примут?
- Думаю, да. Там требуется еще пара человек. Так что давай спать, а завтра пойдем к Яворщуку, моему начальнику, и посмотрим, что он решит.
Утром мы с Иваном пришли на телефонную. Яворщук был рад, что я привел Ивана, и зачислил его в штат линейных мастеров.
На простые порывы проводов я ходил уже один. Ивана обучали то Лука, то дед Рак. Мы сдружились со всеми работниками телефонной станции, и жизнь наладилась.
Поселок Батман - западная сторона г.Макеевки. Здесь был пустырь, на котором выстроили длинные одноэтажные здания, как конюшни или коровники в колхозах. Все одного типа, они были разбросаны как-то без соблюдения равных расстояний и в большинстве случаев далеко дом от дома. Как будто получившие этот участок под стройку старались застроить его хоть как, лишь бы другие не захватили площадь. Площадь не выровнена. Между общежитиями находились природные яры, бугры, глубокие колдобины. Наше общежитие находилось около кукурузного поля. Растения высотой в человеческий рост склонялись своими метелками далеко к горизонту, к которому поле постепенно возвышалось. Кукуруза служила зеленым парком и укрытием для влюбленных.
В полукилометре от нашего общежития находились ремесленная школа и второе после нашего мужское общежитие. Школа же была обнесена высоким забором с колючей проволокой. Постройки эти располагались так, чтобы с улицы не было видно внутреннего двора.
Утром открывались ворота, и из ограждения выходила колонна подростков в строгом строю. Командовал ими строгий военный. Видно, что дисциплина там была железная. Ребята были одеты в красивую темно-синюю форму, форменные фуражки с лаковыми козырьками. На рукавах приколоты латунные символы училища: молоток, перекрещенный с гаечным ключом. Широкий пояс с большой пряжкой, на которой были выдавлены большие буквы - Р.У.
А вечером колонна красивым строем приходила к воротам-браме, которые открывались, и ребята исчезали до следующего утра. Все это придавало школе таинственность, и мы с Иваном завидовали ребятам, их форме и той профессии, которой они учились. Ребята были нашими одногодками, и мы попытались даже поступить в эту школу. Однажды нам удалось встретиться с человеком, которого часто видели выходящим из ворот школы. Это был завуч, и мы изложили ему свое желание. Завуч сказал, что есть приказ не набирать больше учеников. Начальство школы уехало, а он административными делами не занимается и помочь нам ничем не может. Школа рассчитана на определенное число учеников и т.д. - Полный отказ.
Далее шли беспорядочно разбросанные женские общежития. Каких только национальностей девушек там не было! Вот гречанки поют под балалайку: "Ах, мой милый, не целуй, постой!" - Белоруски, украинки, русские, казашки. Не буду перечислять, сколько национальностей есть в СССР, каждая из них здесь присутствовала в виде молоденьких девушек. Их тысячи.
А поселок грязный, нигде ни травинки, всюду валяются консервные банки, битые бутылки, картонные коробки, свежие и полусгнившие тряпки, мотки ржавой проволоки, части каких-то станков, наполовину вросшие в землю, кучи угольного шлака, - в общем, всякого хлама везде по всему поселку полно, но никому до этого нет дела. В свободное время я любил бродить по этому мусорнику: какое это богатство - и шестерни, и оси, и колеса. Эх, если бы такое было у меня дома, то я сделал бы все, что мне нужно и хочется.
Прошло некоторое время. Мне уже давали участок города, где я самостоятельно устранял повреждения. Потом назначили во вторую смену. Бригада - дед Рак, Лука и Иван до трех часов дня исправляли все повреждения, после трех дежурил уже один до 11 часов вечера. Дежурили после трех по очереди. Две недели дежурит один, его меняет следующий.
Я закрывал мастерскую, заходил к девушкам в коммутаторную и наблюдал, как неуловимо действовали они руками. А то слонялся по двору и скучал, но телефонистки нашли мне работу. В то время в городе уже не стало табака, папирос и сигарет. Хоть давай золото - закурить не найдешь. А телефонистки почти все были курящими и очень страдали без курения. И они прилагали свои женские хитрости, чтобы толкнуть и меня на непристойные дела.
- Слушай, иди, забери свой инструмент для выхода на линию.
Я шел в мастерскую, одевал пояс, брал кошки, полевой телефон, перчатки, отвертку, плоскогубцы и являлся к ним. А они уже вынули предохранитель на каком-нибудь щитке и уже через пять-десять минут им звонят:
- Телефонная? - Да. - В магазине 32 не работает телефон.- Почему не обращались раньше? У нас линейные мастера работают только до трех часов. Их рабочее время кончилось, и мы Вам ничем помочь не можем. Завтра сделают.- Девушка, что-нибудь сделайте. Мы без телефона не можем и десять минут, а завтра Бог знает, что случится. - Вам ясно сказано, что никого из мастеров нет. - Сделайте, я в долгу не останусь. - А что у вас есть? - Что Вы хотите? - Курить. - Ах, девушка, просите что другое. Этой просьбой вы меня режете. - Ну, раз режем, до свидания - и штепсель выключается. - Алло, алло, девушка, не сердитесь, я пошутил, найду для Вас, что-нибудь найду... - А откуда вы звоните? - Ох, я бежал сюда с полкилометра. Это контора... - Ну, хорошо. Звоните мастеру. Только помните, что это его дело, захочет он или не захочет идти. - Я и перед мастером в долгу не останусь. - Хорошо, ждите...
Потом они дают мне инструктаж: Траверза пятая, провод третий. Пойдешь, поздороваешься. Он уже по амуниции узнает, что ты мастер. Спросишь: это у вас не работает телефон? - Сними крышку и скажи: "Ого, да здесь кое-что менять нужно. Крышку поставишь на место. Он будет тебя умолять сделать, но ты не торопись, спроси, что есть из курева. Если есть папиросы или сигареты, требуй 50 пачек. Скажет, много, говори "До свидания!" и иди к двери. И сколько бы ни торговался, упрашивал, твердо стой на своем. Сошлись на то, что тебе некогда лясы точить, и стремись уйти. Он сдастся. А сделаешь то, что говорим, мы тебя обцелуем, и любая тебя проведет вечером - кого только пожелаешь...
- Если будете так делать, то не пойду... - Вот дурачок, боягуз, да мы с тобой шутим. Иди, мы будем следить, и когда надо, включим предохранитель.
Я пошел, сделал все "по инструкции". Хитрый торгаш все же меня облапошил, отдал 50 пачек дамских папирос "Шутка". Папиросы женские, гильзы длинные, а курить почти нечего, и в коробке всего 20 штук. Так я стал поставщиком курева.
Сиделка.
Кормились мы с Иваном в столовой. В той части города, где мы жили, она была единственной. Меню ее было крайне однообразным. Капустный борщ - капустняк, капуста жареная в собственном соку, капуста тушеная, капуста сырая. Капустные листы сырые. Бери и кушай, сколько влезет.
Прошло немного времени, и мы уже не могли переносить капустного духа. Слава Богу, в ту пору можно было купить селедки. Была и колбаса - но нам не по карману. Вот мы и кормились селедкой, которая тоже изрядно надоедала. Иногда, очень редко, в столовой варили суп-лапшу или крупяной суп. Тогда знакомые нам девушки звонили из столовой: "Приходите!"
Мы приходили, наедались до некуда и ожидали очередного звонка. Днем заняты работой, ночью - спать. Как только темнело, из общежития выходить было страшно. Напугал нас случай с Митькой Белорусом: его вечером поймала группа девушек (говорили, что их было семеро), завели в кукурузное поле, там что-то ему перевязали и учинили над ним насилие. После этого у него началось омертвление некоторых частей тела и его увезли в больницу, в Донецк, так что мы не могли его даже навещать. После прошел слух, что спасти его врачам не удалось.
Тетя Катя нам часто рассказывала, что здесь есть много распутных девушек, и они уже неоднократно совершали гнусные поступки над женатыми и хлопцами, кого удастся поймать. Мужчин почти нет, вот они и бесятся, говорила тетя Катя. Она же остерегала и нас: "Знайте, они не посмотрят, что вы пацаны, и станут удовлетворять свою похоть, а там - хай подыхает". Случай с Митькой нас напугал по-настоящему, и когда уборщица уходила домой, то мы закрывали обе двери на засовы - ведь теперь на все длинное общежитие нас только двое.
Однажды, выпроводив Ивана на работу, я отправился в столовую - есть хотелось. Покушав, решил пройтись по пустырю, посмотреть поселок. Выйдя почти на окраину, я увидел девушку лет 13-ти. Она часто наклонялась к земле, в сухой редкой траве иногда можно было найти мелкие белые и синие цветочки, она их рвала. Увидев меня, она пошла левее, я же, чтобы не смущать девушку, повернул и медленно пошел назад.
Вдруг услышал вопль ужаса. Оглянулся: девушка сидела, склонив голову, и кричала в голос. Я подбежал к ней: сквозь стежек босоножки в ее ступне торчал кусок проволоки. Это была ржавая пружина с острым концом, сантиметров десять длиной. Пробив тонкую резиновую подошву, проволока пробила ногу и торчала с кровью и ржавчиной сантиметров на пять над ступней. Я немедленно встал на колени и сильным рывком за пружину вынул проволоку из ноги девушки, от боли она вскрикнула и свалилась на землю. Что делать? Недалеко было женское общежитие, наверное, она оттуда. Я снес ее туда, положил на свободную койку и вышел. В общежитии было много девушек, пусть они о ней позаботятся. Некоторые из них выскочили за мной, хотели вернуть и узнать, что случилось. Но я, не оглядываясь, быстро ушел к себе.
Прошла неделя. Утром в выходной мы с Иваном были приглашены к деду Раку - он справлял именины своей старой подруги. Детей у деда не было, и он часто забирал нас прямо с работы - пообедать, или поужинать. Он знал, что мы скучаем по картошке, которой в Макеевке днем с огнем не сыщешь. А у него был свой огород с картошкой и луком. Бабка его часто причитала, что к старости им не к кому голову приклонить, что жизнь прошла, как один день и как, мол, тяжело на старости остаться без детей, внуков и правнуков. Когда приходило лирическое настроение, она была веселая и рассказывала много смешных былей и небылиц. Так что гостевание у таких людей для нас было большим счастьем: на душе легко, праздник, чувствуешь уют, как будто навестил родную семью.
Провели мы у деда весь выходной. Когда пришли домой, то тетя Катя собралась уходить:
- Эге, парень! Тобой начали интересоваться девчата,- смеясь, сказала она, - целый день просидела девочка, ожидая тебя. Совсем еще дитя, да и прихрамывает, но красивая...
На такую тему я стеснялся говорить и молчал. Когда же уборщица ушла, рассказал Ивану, что случилось перед выходным.
В понедельник она пришла в 10 часов утра, видно, тетя Катя сказала ей, когда я работаю. Иван уже ушел, а я вынул из тумбочки кусок хлеба, расколотил в холодной воде с сахаром, позавтракал и снова лег в кровать. Но вот вошла девушка, которая ранила себе ногу. Она поздоровалась и попросила разрешение сесть.
- Пожалуйста,- сказал я. Она уселась возле кровати на табурете и, покраснев, опустила голову.
- Как нога? - Хорошо, меня тогда отправили в больницу. Там что-то делали, я не смотрела, перевязали, надавали уколов и через три дня выписали из больницы. Еще немного болит, но мне надоело сидеть там.
Она взглянула мне в глаза, снова покраснела и затихла. Запасы нашего красноречия исчерпались. Мы оба умолкли, не находя, о чем говорить.
Проходили дни, недели... Она все приходила, сидела, уходила и все без разговоров. Придет, посидит, уйдет, сначала я смущался, потом привык. Но прошло время и ее посещения прекратились.
Вагон на Урал.
Как-то вечером я перезаряжал угольным порошком телефонные трубки, когда в мастерскую зашел Яворщук. Поздоровавшись, он сообщил мне новость: "Завтра приходи на работу с утра. Нам в короткий срок нужно снять со всех точек в городе телефонные аппараты. Предполагается эвакуация на Урал. У тебя есть желание увидеть Урал?" С тех пор, как я ушел из дома, я все время мечтал как-то попасть в Свердловскую область, на станцию Сарапулька, откуда отец послал нам последнюю открытку. Надеялся найти людей, видевших его там в последний раз, и увидеть хотя бы могилу. А попасть на Урал официальным путем представлялось для меня счастьем.
- Да, меня всегда привлекают новые места. - А Иван, ты как думаешь? - Он тоже согласится ехать. Точно сказать не могу, но думаю, что без меня он ни на что не решится. - Хорошо. До свидания. До завтра.
Буря разноречивых чувств охватила меня после его ухода. Вспышками проносились надежды, сразу гасимые сомнениями.
Утром телефонистки и линейные мастера собрались в коммутаторной на митинг. Начальник выступил с краткой деловой речью. Распределив обязанности, рассказав, кому что предстояло делать, он предложил приступать. Нам была выделена полуторка. Сначала мы свозили аппараты в подвал. Но на железнодорожной станции уже формировался эшелон под вещи, которые должны быть вывезены в первую очередь. Яворщук бегал от начальника к начальнику и добился под оборудование телефонной товарный вагон. Работа закипела, погрузили коммутаторы, телефонные аппараты, инструменты. Предполагалось со всем этим хозяйством эвакуироваться Яворщуку, мне, Ивану и восьми девушкам-телефонисткам. С погрузкой имущества мы справились в положенный срок. Но другие организации никак не могли загрузить свои вагоны. Тут сказалась нераспорядительность и безалаберщина. Что-то погрузили, а потом находилось более важное, и его грузили, выбрасывая предыдущие. Культурные люди - начальники - заводили такую матерщину, что уши сами глохли от стыда.
В железнодорожных тупиках формировалось много эшелонов для эвакуации в тыл. Мы с Иваном слонялись без дела, наблюдая, что делается вокруг. А творилось невероятное. Люди как будто ничего не знали, что происходит, и не предполагали, что может предстоять. И вдруг - паника, нераспорядительность, полное безвластие, Содом и Гоморра.
Мы с Иваном мысленно уже двигались на Урал. Разные картины рисовались нашему воображению, а суету, творившуюся вокруг, мы воспринимали как кошмарный сон.
Но в одно такое суетливое утро Яворщук предложил зайти к нему в кабинет.
- Я очень сожалею, ребята. Я к вам привык, и вы мне стали, как родные сыновья. Но живем в такое время... придется нам расстаться. В эшелоне, отправляющемся на Урал, места строго лимитированы, едут только те, кто сопровождает и отвечает за сохранность эвакуированных ценностей. Так что телефонную сопровождать буду я один. Вот приказ и командировка. Но не грустите, сколько мог, я позаботился о вас... В тупике уже сформирован состав. В нем - рабочие Макстроя, к которым теперь принадлежите и вы. Они командируются в Черниговскую область строить линию укреплений, дабы не пустить врага вглубь страны. Вот вам командировки, вот деньги, здесь суточные и командировочные. Распишитесь - и дай вам Бог удачи. Остальное там разберетесь и выясните сами... Это ближе к Днепру и вам легче будет добраться домой...
Дорога на запад.
На строительство укреплений в Черниговской области был сформирован солидный состав. Шесть десятков лошадей было помещены в товарные вагоны. На площадках стояло тридцать телег военного типа, окрашенных в защитный цвет. Кожаная сбруя: со всеми возможными "виденками", прочная, красивая, с медными бляшками и пряжками.
Были погружены и три полуторатонные бетономешалки. Ящики с селедкой, колбасой краковской, постельные принадлежности: подушки, наволочки, простыни, верблюжьи одеяла, шахтерские галоши, спальные матрацы без набивки. Все добро занимало полный товарный вагон. Был еще вагон-магазин. Дряхлые пассажирские вагоны заполняли рабочие. Вагоны были набиты людьми так, что спать приходилось сидя - рассчитывали в пути быть не более суток. Но не сталось, как гадалось.
Основная масса рабочих - женщины от 17 до 25 лет. Мужчин на весь эшелон было только 9 человек, кроме машинистов. Начальник строительства, инженер - его заместитель, два машиниста бетономешалок, ответственный за лошадьми и их упряжью и нас двое без квалификации и должности. В пути в уголке вагона, в котором размещался поездной штаб, мы с Иваном увидели весь мужской состав поезда. Но мы чем-то стесняли взрослых дядь, и они даже хотели нас посадить в женский вагон, но потом нашли другой выход: « Ребята, хотите, я вам дам работу? Работа не тяжелая - лошадей кормить».
В товарном вагоне находилось шесть лошадей. На соседней платформе стояли тюки прессованной соломы. Наша работа заключалась в том, чтобы брать тюки с платформы и задавать солому в корм лошадям. На ходу поезда специальным скребком выгребать из вагона конский навоз по проходу вагона против ворот, которые, отворяясь, ездили на колесиках и заходили за стенку, освобождая проем в два метра. Мы притащили в вагон восемь тюков соломы, уложили по два рядом, получилась постель, а два раскрыли и подкладывали лошадям по мере надобности. В других же вагонах лошадей досматривали женщины. Нас радовало, что ехали мы не в тесноте и что на остановках не надо бегать к вагону-магазину - старший конюх сам носил нам в корзине, что нужно, и мы могли покупать продукты, не выходя из вагона, плюс на неделю давали по пачке махорки.
Из Макеевки в Черниговскую область мы ехали 14 суток. Поезд то шел черепашьим шагом, то заходил в тупик, шел назад-вперед с короткими и длинными остановками. Иногда вставал просто в степи. По обеим сторонам дороги встречались бомбовые воронки, значит, фрицы уже доставали и сюда.
Очень тяжело было с водой. Никогда эшелон не останавливался там, где можно было бы запастись водой. Сухая еда, в большинстве своем селедка, надоедала и измучивала людей жаждой. Большинство людей были голодными. К магазину добраться было трудно. Очередь, бывало, уже подойдет, но поезд дает свисток, и все разбегаются по вагонам, ничем не отоварившись.
Несколько раз на стоянке к нам в вагон заходила моя бывшая сиделка. Оказалось, что у нее есть тетя всего 20-ти лет от рода. Тетя, желая найти пристанище, мечтала или сама выйти замуж, или выдать замуж племянницу - на нее больше надежды: молода, красива. Кто они были с тетей, где жили, как их зовут, я не узнал, никогда не разговаривал с нею, а вышесказанное выведал Иван. Он-то и сказал девочке, что они с тетей обе дуры, неподходящее время сейчас для свадеб, и чтобы она больше сюда не приходила.
Вот поезд остановился недалеко от населенного пункта. Невысокие вишневые деревья скрывали стены хат, но соломенные крыши выглядывали из густой зелени листьев. Солнце перевалило зенит и начало свой спуск. Было в меру тепло. Недалеко от эшелона начинался пустырь. Трава на нем наполовину засохла, но под сухими стеблями зеленел нижний слой новой травы. Еще росли кустарники и одинокие вишни. Этот пустырь тянулся до самого селения. Возле вагона-магазина слышен был говор толпы. Умеренная тишина. На сердце - благодать, спокойствие. Мы с Иваном стояли у дверей вагона, опершись на косяки. Только что получили очередную порцию махорки. На курево истратили последний лист моей записной книжки. Дефицит на бумагу.
Стоим мы так, курим. Лошади хрумкают свою сухую солому, а мы созерцаем прелесть природы. И вдруг видим: стайка девушек и хлопцев бегут по пустырю к нашему вагону и выкликают мое имя. Сначала я подумал, что где-то там внизу возле вагона есть тот, кому обращены их возгласы. Но нет: бегут к нам и гурьбой вторят мое имя. Что за наваждение?
В груди замерло сердце: неужели наши люди оказались здесь, а мы едем к фронту? Ну, пусть ребята, а откуда здесь девчата? А ведь так звать могут только свои. Когда же все-таки убедились, что это относится ко мне, мы с Иваном выпрыгнули из вагона и побежали навстречу. Объятия, поцелуи, родные, да и только. Ну, поток вопросов и ответов. Они нам, мы - им.
Из всех 12-ти я знал только двоих из нашей группы, земляки. Они Макеевку бросили на второй рабочий день и пошли в обратном направлении домой. Но когда стало известно, что немцы уже дошли до Днепра, то идти стало некуда. Тогда они отаборились в селе в Полтавской области и поженились, т.е. стали примаками... Девушки же знали мое имя из рассказов их избранников, о том, что случилось с нами в дороге, и как я защитил свой взвод и потому стал героем в воображении девушек.
Tрoе девушек побежали в село. Под вишней на травке постелили рядно, на которое выложили сало, яички, хлеб, огурцы, помидоры и другие продукты, о которых мы даже и не мечтали. Расположились вокруг рядна. Девушки угощали и все вместе уговаривали остаться в их селе: "Мы вас сразу поженим", и обещали всякие блага. Иван поддался на соблазн и заявил мне, что останется.
- Как хочешь, но я поеду. Есть долг, особенно в это время. Анархия может довести до плохого. Но ты вольная птица, и я тебя не удерживаю, - ответил я.
Не удалось даже докушать. Загудел наш паровоз - сигнал по вагонам, я встал, простился и пошел к вагону. На душе было грустно. Потерять товарища в таких условиях тяжело. Девушки собрали все, что было на рядне съестного, и подали мне в вагон. Поезд дал второй гудок. Я соскочил с вагона еще раз попрощаться, и обратно.
Поезд шаркнул вагонами и покатил. Я стою в дверях, машу рукой. Они что-то кричат и тоже машут руками. И все больше отдаляются от меня. Вдруг от машущих платков и фуражек отделяется один и бежит за поездом, что есть сил. Это Иван. Вот он почти у вагона, но поезд идет уже быстро, он отстает... Все... Блеснувшая надежда пропала.
На очередной остановке я сидел на "постели", курил. Жестокая тоска овладела мною. Тоска по родным, по дому, по своему краю. Не было интереса глядеть из вагона. Никаких желаний, полная апатия. Вдруг у вагона появилась белая голова, белый чуб, белые ресницы, вдавленный посредине нос. Губы расплылись в улыбке:
- Принимаешь? - Иван! Вернулся?! - Да не могу. Привык к тебе, и когда ты вскочил в вагон, то у меня в груди что-то оторвалось. Нет, без тебя я никуда. - Ну и хорошо. В чужом краю без друга очень трудно.
Я подал ему руку, помог ему влезть в вагон.
Пустая затея.
После описанных событий поезд наш еще двое суток ползал по рельсам то взад, то вперед. И вот наступил конец нашему путешествию. Между макстроевцами говорили, что выгружаться будем совсем в другом месте, чем предполагалось. Выгрузились на неизвестном полустанке, а потом все перевезли в село Борщаговку. Разместились на колхозном дворе. Колхоз располагался на юго-западной стороне села. Поставили лошадей к готовой коновязи на колхозном дворе. Дощатый сарай использовали под кладовую. Телеги расположили в виде забора, чтобы лошади не могли убежать в степь, если оторвутся от коновязи. Бетономешалки сбросили у кладовой, чтобы не мешали, рядом поставили полуторки.
Народу приехало очень много, потому во все хаты было подселено по три или даже пять человек. Нам с Иваном пришлось квартироваться на противоположном конце села. В небольшой старой хате жил старик со своей уже пожилой дочерью. Жили плохо, работать некому, хозяйство их в запустении. Из продуктов - лишь картошка да лук. Но когда мы поселились, хозяйка иногда варила борщ, занимала у соседей квас.
На следующий день после приезда и устройства на квартирах сошлись все на колхозном дворе, был устроен краткий митинг. Оказалось, что делать бетонные укрепления - пустая затея. Три бетономешалки и полуторки - капля в море. А где брать камень и цемент? Решили рыть широкие, глубокие противотанковые рвы. Макстроевцам выдали штыковые лопаты. Отошли от села на полтора километра и начали работу. Работали исключительно женщины. Кроме приехавших макстроевок, на рытье противотанковых рвов были согнаны женщины местные, из районов, деревень и поселков. С запада на восток, сколько видел взгляд, замелькали белые платки. С западной стороны они скрывались за горизонтом, мелькали обширной линией и терялись в мареве восточной линии горизонта. Издали казалось, что как будто копошатся муравьи с белыми головами.
Нас с Иваном и еще двоих "старых" (по тридцать лет) женщин поставили к лошадям. Они тоже напрасно сюда были привезены, только лишняя обуза. Наша задача была кормить и поить лошадей на колхозном дворе. Утром мы приходили, запрягали в арбу пару самых спокойных лошадей и ехали в поле косить клевер. Потом привозили и раскладывали зеленку по желобам. После обеда снова косили и закладывали корм на ночь. Вот и вся наша служба...
В трех километрах от Борщаговки в Быкове находился сахарный завод. "Патриоты Родины" уже удрали, бросив завод и все заводское имущество. Люди начали растаскивать все, что возможно было унести или увезти. В первую очередь растаскивали сахар. Мы с Иваном побыстрее накормили лошадей, запрягли их в военную повозку и поехали в Быков.
Лошади застоялись, трудно было их удержать, так что мы мигом очутились на заводском дворе. Народа там масса: женщины, дети, старики - куда там Сорочинской ярмарке. Только здесь не покупают, а толпятся: кто в склад спешит, кто уже из склада. Телеги, тележки, тачки, т.е. все, что было на колесах, служило орудием хищения. Протолкнуться было нелегко, так что нам с Иваном пришлось потрудиться в полную силу, и напористость была вознаграждена. Нам удалось взять шесть лантухов сахара, пять мешков по 120 кг и один 50 кг. Лантухи по 120 кг были с желтым, еще не очищенным, сахаром, а 50-килограммовый с уже чистым, готовым сахаром. Но до мешков с чистым сахаром было трудно добраться. Нас захлестнула общая горячка наживы.
Только отъехав немного от завода, мы опомнились. К нам вернулась способность мыслить. Мы одновременно один другого спросили: Зачем нам столько? - И рассмеялись. Когда завезли сахар во двор и растолковали деду, в чем дело, его охватил ужаc.
- Не бойся, дедушка. Это был вольный разбор сахара, никто не останавливал и не запрещал. Все люди, кто мог, брали. Вам нечего бояться. Никому не говорите, и в случае чего на вас никто не укажет, и некому брать...
Снесли мы сахар деду в гулин. Конечно, он не мог представить столько сахара и что с ним делать.
Вскоре появилось море самогона. Цена дошла до 50 коп. за литр. Иван по водочному делу близко сошелся с главным конюхом и другими любителями выпить, и сам часто напивался допьяна. Дед его журил, отговаривал, что в таком возрасте пить никак нельзя: "Ты еще ребенок" и т.д. Но увещевания шли мимо его ушей, жизнь катила своим чередом. Однажды и меня напоили. Но мне это дорого обошлось. Рвало меня трое суток, и еще целую неделю не мог я ничего кушать, так был отравлен организм. После этого случая я не мог переносить запаха водки - ни с чарки, ни от дыхания выпившего человека. Меня мутило при этом. А, в общем, водка мне не пришлась, иначе пил бы, как и другие.
«Рама».
День был погожий, солнечный. Мы шли после обеда на работу. К центру села улица здорово расширялись, образуя длинную площадь. Дворы не обнесены изгородями и потому деревья, где дальше, где ближе, выходили на улицу. Четкой границы между дворами и улицей не было, и уличная тропинка то углублялась во двор, то выводила на улицу. Мы шли по этой тропинке, а посередине улицы ехала телега, груженная высоким стогом из снопов пшеницы. На врубеле, прижимавшим снопы, чтобы не распались, сидел мужик с вожжами и управлял лошадьми. В небе послышался гул самолета. Он быстро приближался, и мы увидели чудище невиданное. От середины крыл отходило два столба и соединялись в хвосте, образуя раму. Рама пролетела над центральной улицей села с запада на восток и за селом скрылась. Через несколько минут тишины снова послышался гул. Мы оглянулись: рама летела в обратном направлении.
Мужик на возу снопов был как раз напротив нас и смотрел в небо. Мы тоже остановились, казалось, что самолет завис над нашими головами. Вдруг от него отделилось что-то серое. Пронзительный дрожащий свист заполнил пространство. Глухой удар, а за ним оглушительный взрыв. Нас с силой толкнуло, и мы, как спички, распластались за стволом дерева.
Когда мы поднялись, то на площади и вокруг нее ничего нельзя было узнать. Взамен телеги со снопами зияла глубокая и широкая воронка. Вокруг нее волнами отходили бугры, покрытые землей и сажей. Это были раскиданные снопы, перемешанные с землей, остатки телеги и самого хозяина. Деревья с обеих сторон были обломаны, а уцелевшие ветки покрыты пылью и сажей. Все кругом было черно и неузнаваемо. Отряхнувшись от пыли и сажи, мы поспешили к лошадям. Там были в сборе все семь мужиков Макстроя.
«Серая туча» и путь в никуда.
Начальник с шоферами хлопотали возле полуторок. Они должны быть исправны, чтобы в любую минуту, когда понадобится, их можно было пустить в дело. Давал он указания и по другим хозяйственным делам. Мы же с Иваном запрягли лошадей в арбу, готовясь выехать в поле косить клевер.
На линии рытья рвов копошились тысячи женщин. Их белые платки, как пламя зажженных свечей, полыхали в серой дымке. И так они были сосредоточены на своей тяжкой работе, что почти не замечали, что делается вокруг. Старший конюх сказал: "Женщины так заняты работой, что и не замечают, какая туча надвигается. Вот град будет!"
Все посмотрели на запад. И действительно, от горизонта на западе надвигалась черная туча и так быстро, что, поняли - в село уже не добежать. По мере приближения туча все увеличивалась и как бы становилась реже и серела. Но вот стало видно, что туча состоит из отдельных тучек в каком-то шахматном порядке на небе. Да это тройки самолетов. А дальше все происходит непостижимо быстро. Самолеты долетают до места рытья рвов, разворачиваются, летят по линии копошащихся женщин и бросают на них град бомб. Летят все новые и новые тройки, и бросают, бросают бомбы, пока черная стена от разрывов не заслонила небо и сами самолеты. Такой черноты в пространстве я дотоле никогда не видел! Все, конечно, ожидали, что из этой тьмы в село побегут женщины. Но из этой тьмы никто не выбегал. Наверное, всех их похоронило в ужасном реве взрывов тяжелых бомб.
Когда первое оцепенение от увиденного прошло, начальство велело запрягать военные фургоны и подъезжать к макстроевской кладовой. Однако лошади от гула и содрогания земли как будто взбесились. Цепи, которыми они были привязаны к коновязи, рвались как гнилые веревки. А освободившись от привязи, жеребцы затеяли страшную драку. А их была половина на половину кобыл. Никогда бы не поверил, если бы сам не видел, как способны звереть лошади в определенных обстоятельствах. Они грызли друг друга, налетали грудью. Копытами выбивали зубы. Часто верхняя или нижняя губа просто отлетала вместе с зубами от удара острого копыта. Поймать или как-то прекратить драку лошадей было невозможно - затопчут, сотрут на порох.
Около коновязи, правда, еще оставалось с десяток лошадей, не сумевших порвать цепи. Но и их охватило общее волнение, и подойти к ним было опасно. Только когда табун дерущихся лошадей ушел далеко в поле, оставшиеся на привязи успокоились.
Появились десятка два женщин макстроевцев, которые по разным причинам сегодня не работали на копании рвов. Четверо из них согласились сесть на повозки управлять лошадьми. И тогда мужчины дружно стали помогать запрягать лошадей.
Всего собрали пять упряжек. Мы с Иваном решили ехать на одном фургоне. Первыми загрузили свои повозки женщины. Военные возы были крепко сделаны, покрашены в зеленый цвет и имели большие и глубокие кузова. В передней части нашего фургона поместили ящик с копченой селедкой, ящик с краковской колбасой. Каждый ящик - в пятьдесят килограммов. Остальной кузов заложили шахтерскими галошами, а сверху уложили простыни, одеяла, пустые матрацы, наволочки. Этого тряпья наложили столько, что гора возвышалось над кузовом на полтора метра.
Кончили грузить, подвязали под кузовом походное ведро и поехали. Мужчины и несколько женщин уехали на двух полуторках. Одну им пришлось бросить - повредилось колесо, а заменить или вулканизировать было нечем. Начальник нам сказал, чтобы ехали на Яготин, а они будут там нас ожидать.
Уехали они. Двинулись и мы, сидя на высокой поклаже. Иван правил лошадьми, я же лежал сзади.
- Я вот что думаю,- говорит Иван,- Как же так можно, сколько людей сюда привезли, а сколько уезжает? А ты мне все толкуешь про коллективность, и что в случае чего о нас позаботятся. А на деле что вышло? Никто даже не предложил пойти к разбомбленным женщинам, может, там не только мертвые, но и раненые есть, ждали и ждут помощи. Бросили и удрали - своя шкура дороже!
- Да, Иван, ты прав. Конечно, надо было всем пойти туда, может, и правда, можно было кому помочь.
- Вот так и нас они бросят, а ведь был у нас шанс устроиться.
- Нет, того шанса я не признаю, слишком шаткое то устройство...
Дорогу мы спрашивали у людей и все ехали по направлению Яготина. На ночлег заезжали в колхозные дворы. Там было чем покормить лошадей, и самим можно было уснуть в теплой конюшне.
Так проехали весь путь до Яготина, но нигде наших упряжек не увидели - как сквозь землю провалились. Проехали Яготин, но и там не встретили ни повозок, ни начальства с машинами.
С Яготина мы должны ехать на Пирятин. Под вечер мы высматривали село недалеко от дороги, чтобы заехать на ночлег. На пути оказалась лесополоса, а за ней возле кустарников мы увидели две грузовые машины и группу копошащихся людей. Нас тоже заметили и замахали руками. Это были наши макстроевцы.
- Хорошо, ребята, что вы подъехали. Сейчас вон зарежут корову, покушаем горячего супа и свежего мяса. А сейчас кормите лошадей. Остальных наших возниц не видели?
- Нет, нигде их не видели...
- Ах, черт, где же они запропастились?
В стороне от машин, в кустах, на козлах висел котел. В нем уже начинала кипеть вода. На пне рядом мужчина точил огромный нож, поглядывая на привязанную к кусту жертву. Это была рыжая с белыми пятнами корова. По кольцам на рогах можно было понять, что ей семь лет, самый возраст, полное вымя - женщина надоила враз семь литров молока. Где взяли они эту корову, спрашивать было некогда. Вот, отточив нож, мужчина стал приближаться к своей жертве. Но в это время из кустарника вышел человек, которого окружили все, кто только был близко. И сразу началась паника. Резать корову не стали, котел с кипящей водой опрокинули и бросили в кузов машины, корову же привязали к нашему фургону, приказав вести ее в сохранности до первого же места, где они встанут табором. Двигаться надо на Пирятин... Сами же расселись по машинам и уехали в сторону Пирятина.
Надо сказать, что когда мы выезжали из Борщаговки, то возле коновязи оставалась одна белая, как лебедь, лошадь, а ее пара далеко в поле справляла праздник свободы. Иван тогда пожадничал и пристегнул эту "лебедь" к нашей упряжке. Таким образом, мы уже имели трех лошадей, а теперь добавилась еще и корова. Мало того, что из-за нее мы двигались медленно, но надо было еще каждую встречную женщину просить ее доить, потому что из-за переполненного вымени она совсем не могла идти.
Не помню уж, сколько суток мы ехали к Пирятину. Но вот добрались до него. Медленно проехали этот городок, останавливаясь и расспрашивая прохожих. Но никто не видел ни машин, ни повозок вроде нашей. Доехали до конца городка, где на выезде оказалась военная застава. Далее она никого не пропускала. Конечно, мы обратились к начальнику заставы, рассказали, кто мы, спросили, что нам делать...
- Ничем, ребята, не могу вам помочь. Надо вам ехать на Яготин.
- Так мы же ведь оттуда как раз. Сколько суток добирались сюда. Где-то здесь должны быть и наши машины.
- Обстановка изменилась, и Ваши машины, конечно же, направлены в Яготин...
Делать было нечего. Мы поворачиваем и снова едем на Яготин. Прибыли в Яготин, но там тоже поставили заставу:
- Куда, орлы, прёте?
- Мы? - С Пирятина. Нас направили на Яготин.
- Да покуда вы ехали с Пирятина, обстановка изменилась. Поворачиваете оглобли на Пирятин.
Делать нечего, опять едем на Пирятин... Так мы ездили пять раз в Яготин и пять - в Пирятин.
В одном месте искали водоем, чтобы напоить лошадей и корову. Заехали в арбузное поле. Лето было теплое, как раз для хорошего урожая арбузов. И, правда, все огромное поле в крупных спелых арбузах. Только дотронься - лопаются сами и сок бежит. Подошли к куреню. В его тени дремал сторож.
- Что ж урожай не убирают? Сколько кавунов уродило...
- А, никому нет дела до кавунов. Говорил председателю, он рукой махнул. Еще три дня постерегу и, если убирать не будут, уйду домой!
Конечно, нас он угостил самыми лучшими арбузами. Наелись под завязку, да еще корове и лошадям дали. А сторожу вынули пару селедок.
- Набирайте кавунов, ребята, сколько можно, все равно им хана.
Мы сделали посреди барахла на фургоне выемку и вместили в нее арбузов двадцать.
По дороге увидели небольшой лесок, возле него в тени - зеленую машину с большой железной будкой на кузове. Военные парни сгружали с машины тяжелые деревянные ящики.
- Эй, орлы, а ну, давайте сюда.
Мы остановили лошадей, подошли к военным, их было трое.
- У вас посуда какая есть?
- Кроме ведра, нет ничего.
- Давайте ведро!
- Но видите, у нас трое лошадей и корова. Нужно их напоить, а как без ведра?
- Мы его не заберем. А что у вас на возу?
- Арбузы, мы ехали рядом с баштаном и сторож угостил.
- Ага, черт возьми. Так почему вы не хотите нас угостить?
- Берите, сколько хотите. Мы уже сыты ими.
Пошли к повозке. Каждый из них взял по два арбуза. А в их ящиках оказалось сливочное масло. С использованного одного ящика они сорвали клок лощеной бумаги, выложили им ведро и наполнили его маслом доверху, да еще два котелка натромбовали маслом:
- Берите с котелками, оно вам еще сгодится.
Они нас поблагодарили за арбузы, мы их - за масло, и поехали дальше. Из лубка изготовили лопатки-ложки. Едем и понемножку лопаткой отправляем масло в рот. Вкусное масло просто тает во рту. Жаль, что нет хлеба. Просить мы стесняемся, а купить негде. Пробовали купить у хозяек. Но у одной нет печеного хлеба, у другой - пригорел, третья дала нам кусок: нате, мол, покушайте, а продавать нечего. Так что лишь стыда набрались, и после таких неудачных попыток обходились без хлеба, трескали масло без хлеба. Так и выели сначала с котелков, а потом и за ведро взялись. Но... Но с ведра только начали. Что-то закрутило в животе, а потом вместо испражнений пошло масло не переваренное. Началась у нас сильная тошнота и понос, которым мы отболели дней 8. За эти дни мы вообще не прикасались к пище, даже арбуз казался рвотным средством.
Последний, уже шестой раз едем на Пирятин. Иван вносит предложение: "Давай, за 15 километров до Пирятина, я оседлаю "белого лебедя" и поеду вперед. Если застава стоит до сих пор и не разрешает ехать дальше, то я быстро вернусь. Нечего мучить бедную корову." - " Наконец-то ты дал умное предложение. Действуй!"
Полетел мой Иван на белом лебеде на Пирятин, а я один - мучаюсь. Корова от усталости падает в дорожную пыль и никак ее нельзя поднять на ноги. Она лежит и как-то смутно смотрит на подсунутое ей угощение. Я нарвал ей свежей ботвы со свеклы, нарезал целую кучу, она смотрит совершенно равнодушно. Ее глаза говорят: "Отвяжитесь от меня, мучители, дайте умереть спокойно!" Подкормив лошадей, подняв корову на ноги, мы медленно двигались к Пирятину. Уже и солнце поднялось в зенит, потом покатилось по наклонной к закату, а белой лошади все нет и нет. Я все жду: вот появится Иван, как договорились, и тогда мы решим, что дальше делать. Но Иван все не возвращался. Так, теряясь в догадках, уже в темноте добрался до заставы:
- Стой, куда прешь?
Я остановился. Ко мне приблизился солдат с керосиновым фонарем.
- Слезай, пошли!
Меня завели в будку. В стороне от нее возле дерева я увидел нашего "лебедя":
- О, лошадь наша стоит. А где же Иван?
- Какой еще Иван?
В будку вошли трое. Среди них был и старший. Я только дважды видел на заставе одних и тех же, а то все новые попадались.
Начался допрос. Документ у нас один-единственный - командировка, но этого недостаточно. Но я рассказал все, что интересовало работника заставы. Привели Ивана. Оказывается, его посадили в сарай, приставив охрану до выяснения его личности, потому что командировку он потерял. Но я вспомнил, как он ее укладывал под клеенку потника своей фуражки. Спохватился и он, пошарив в фуражке, нашел свою командировку.
Насладившись нашей беспомощностью, заставовцы немного подобрели и даже начали шутить. Пользуясь таким случаем, мы начади просить, чтобы нас взяли в солдаты и обещали выполнять все, что нам прикажут. Но нашу просьбу они встретили сначала громким хохотом. Потом посерьезнели до суровости.
- Вот что, пацаны! Без вас тут тошно. Так что убирайтесь вы отсюда, да побыстрее. А то, как посидите там, где он сидел, да без еды и воды, то весь воинский дух из вас вылетит, как испуганный соловей с гнездышка. Так что, убирайтесь отсюда, живо!
- А лошадь можно взять?
- Свою лошадь забирайте обязательно!
Так нас выпроводили из заставы.
Проехав несколько километров, мы остановились в темноте. Пустили корову и лошадей пастись в свекловичную ботву, а сами накрылись одеялами и уснули на траве "перекати поле". Утром проснулись от утренней прохлады, умылись холодной росой, что собралась на листьях свеклы. Лошади дремали, стоя, корова отлеживала бока.
Мы окончательно поняли, что наше начальство с машинами проскочило еще до образования застав и что мы оставлены на самих себя, и что некому за нас решать, как быть дальше. Первый вопрос: что делать дальше с коровой? Ведь понятно, что те, кто может о ней спросить, далеко отсюда и никогда нас о ней не спросят. Перебирая разные варианты, мы решили обменять корову на десять буханок хлеба. Но скажу об этом сразу: мы объехали много сел и нам давали хлеб - кто буханку, кто полбуханки, кто сколько мог, но выменять у нас корову никто не согласился. Тогда мы решили отдать ее за 20 кг муки, из которой мы могли бы на стоянке печь коржи. Но муки уже никто не давал. Тогда мы решили отдать корову просто так, без ничего, какой-нибудь многодетной семье - но все равно от нее отнекивались, как от черта. Тогда объявляли, что корову может взять тот, кто желает. Желающих не нашлось...
- В чем дело? - спрашивали мы людей,- Ведь дойная, еще не старая корова, может, и теленка носит, никто не желает взять ее даже даром?
- А кто его знает, где вы ее взяли... Возьмешь, а потом хлопот не оберешься...
- Да послушайте, люди, поедем к сельсовету, мы дадим вам расписку, заверим у председателя, и никто вас не тронет...
- Нет, теперь такое время, что никому нельзя верить. Что-нибудь случится, вас и днем со свечкой не найдешь. Отдавайте корову тому, у кого вы ее взяли...
Да мы давно бы так сделали и без советчиков, если б нам сказали, у кого ее взяли. А может, купили или украли, нам неизвестно. Тогда заехали мы в поле и отпустили корову на свекловичное поле. Ботва сочная, зеленая, поправляйся и прости, что мы тебя столько таскали с собой, мучили. Рано или поздно, а хозяин, хороший или злой, для тебя найдется. Корова сразу улеглась среди сочной зелени, желая только отдыха.
Потом мы решили заехать в ближайшее село и сдать макстроевское имущество и лошадей с фургоном в колхоз. Но толстопузые и твердолобые председатели колхозов твердили одно: "Везите его дальше, тут и за свое придется отвечать, а вы нам еще хотите навязать лишние беды. Нет, нет, увозите, туда... " Мы везли "туда", но там - такая же песня. Ну, раз так, то будем распоряжаться по-своему. Заехав в центр одного села, остановились в тени орехового дерева. Объявили сельчанам, чтобы звали людей, будет представление.
"Да что это за байстрюки, и что это они выдумают?" - любопытствовали селяне. Сначала понабегали дети, потом робко у одного забора сошлись женщины. Любопытных становилось все больше, они пересуживали между собой, что к чему. Некоторые женщины начали шутить и расспрашивать: "Когда это вы стали артистами? И что это будет за представление?" Но мы были невозмутимы. Сидели возле фургона и лузгали семечки подсолнуха.
На улице показался мужчина в чистой одежде и выбритый. По женским возгласам мы поняли, что это идет кто-то из властей. Он поздоровался с нами и попросил предъявить документы. Пришлось кратко рассказать о себе все, что его интересовало.
- Говорят, вы тут что-то разыгрываете, зачем вам понадобилось дурачить людей?
- Мы не намерены никого дурачить, а хотим только раздать людям все, что у нас есть в фургоне. Или пусть колхоз возьмет все это добро в свою кладовую.
- А с председателем колхоза вы говорили?
- Да. Он наотрез отказался от приемки чужого имущества, полагая, что нет у него такого права.
- Вот что я вам скажу тогда. Уезжайте из села, а то позвоню в милицию, тогда посмотрите, как разлагать народ.
- Вот это да... Поехали отсюда, а то, чего доброго, он еще какой ярлык прицепит...
Выехали мы и из этого села дураками, как Иван назвал. Остановились еще в одном большом селе, и начали наделять людей в зависимости от числа членов семьи. Охотно брали люди одеяла, простыни, толстые шахтерские галоши, матрасы, наволочки. Собралось людей много. Я спрашивал, сколько детей, а Иван отсчитывал "товар". Так что с раздачей барахла справились быстро. Люди брали охотно, и получив, удалялись. Что касается лошадей и фургона, то мы уже понимали, что их нигде не примут. Тогда выехали в степь, распрягли лошадей и пустили на вольную волюшку. Сбрую кожаную, крупную, красивую положили в фургон, и возвратились в село.
Председатель сельсовета, худая пожилая женщина, на наш вопрос: "Можем ли мы получить приют в селе, пока разъяснится, что нам дальше делать?" - ни слова не спросила, а как мы поступили с имуществом и куда подевали лошадей. Как будто она впервые нас видит. Но написала записку председателю колхоза: "Поселите ребят в бывшем доме для сирот" - и подпись поставила. Пришли мы до того самого председателя, которого уже просили принять наш воз и лошадей. Он взял бумажку и сказал: "Идите вон в тот дом, располагайтесь!" Сам куда-то позвонил, чтобы явился кладовщик и выдал нам продукты на жизнь.
Попали мы в богатейший колхоз. Тут сразу бросались в глаза добротные постройки, буквально все - из кирпича. Длинные коровники, конюшни, свинарник, все побеленное, чистое. Везде, между скотными помещениями, аллейки обсажены рядами деревьев. На птичьем дворе - сотни кур, уток, гусей. Другая половина двора состояла из административных помещений. В саду размещались десятилетка, дом-интернат для сирот на 12 человек, контора колхоза, кладовые - большое кирпичное здание с множеством ворот и дверей - для разной поклажи. Все постройки занимали свои места, и оттого создавалось приятное впечатление порядка, уюта.
Дом для сирот тоже был красивым зданием. Внутри устроены отдельно кухня и столовая. А жилое помещение было большой квадратной комнатой с огромной крестьянской печью. Жившие здесь ребята были мобилизованы в армию. После них осталось полной сухарей на печи: белые, серые и черные. Остались жить тут два старика и две женщины с Житомирщины. Они выгоняли скот на восток, а, возвращаясь домой, застряли тут, пока выяснится обстановка. Старики жили в комнате, а женщины - на кухне. Мы познакомились со стариками, расположились и принялись грызть сухари. От их количества у нас просто захватывало дух. Старики даже смеялись нашей жадности.
- Видать, хорошенько проголодались. Погодите, сейчас вас накормят. И правда, прошло несколько минут, и в комнату вошла с большой корзиной красивая веселая девушка. Лицо ее было как солнце, испускало светлые лучи. С нами она просто заговорила, как со знакомыми, выкладывая из корзины продукты. Буханку хлеба диаметром сантиметров сорок, не менее, запах от которой заласкал ноздри. Потом достала двухлитровую банку молока, литровую чашку меда. Мясо она сразу отдала женщинам на кухне.
Только мы управились с молоком и медом, как женщины принесли ведерный чугун мяса. Мясо нежное, вкусное. Но старики отобрали его у нас и понесли обратно на кухню:
- Вы что, сдурели? Обожретесь, хлопот не оберетесь.
Потом кладовщица принесла еще муки, постного масла, меда и отдала все на кухню. Сказала, чтобы нам пекли пряники. Стушили еще килограмма четыре мяса.
- Завтра будем вас снаряжать в армию. Председатель сельсовета сказала, что поведет вас в военкомат. Нужно снабдить вас вещмешками, кружками, ложками и на три дня продуктами питания.
Еще только начало светлеть, как женщины с кухни растолкали нас:
- Вставайте, ребята, завтракать.
Скоро появилась и наша молодая кормилица-кладовщица. Принесла вещмешки, с ними два куска сала по 5 килограмм и по паре белья. Мы с Иваном завтракали, а они вместе со стариками все заполняли наши вещевые мешки. Из клеенки сшили сумку и напаковали туда табачку - ведь мы курящие. Подъехала телега. В упряжке пара лошадей с согнутыми шеями и злыми глазами. Жуют удила, танцуют - застоялись. Кучер - молодой парень, рядом - старуха, председатель сельсовета. Воз застлан цветным покрывалом, под которым душистое сено. Небольшая компания попрощалась с нами, как с родными, а женщины - прослезились. Мы сели в задок, положили туда вещмешки и двинулись в дорогу.
Лошади все норовили бежать, но кучер сдерживал их прыть. На полях стояли копны, а то и все поле клонилось, шаталось волнами колосьев, или зеленело свекловичной ботвой. Пора уборки - но никто в поле не работал, поля остались сиротами. Только невидимые птицы оживляли степь своим щебетом.
Мы ехали широкой полевой дорогой. Копыта лошадей тонули в глубокой пыли. Солнце пекло несносно. Населенный пункт, где находился военкомат, от села этого находился в 18-ти километрах. Когда солнце перекатило точку зенита, мы находились уже в трех километрах от военкомата. Но доехать до него нам не пришлось.
На широко разъезженной дороге нам встретилась бричка. Самая настоящая бричка, как музейное напоминание о транспорте властьимущего класса дореволюционной России. В бричке, важно развалясь, сидело четыре сходных в одежде человека. Темные костюмы, белые рубахи, галстуки. Наша телега тоже остановилась, с ней легкой девочкой выпорхнула наша старушка-председатель и поспешила к ожидавшей ее бричке. Разговаривали они шепотом, но, несмотря на это, и на то, что находились мы в десяти метрах от них, я все слышал.
- Куда вы направляетесь?
- Вон какие-то ребята прибыли к нам в село и я везу их в военкомат.
- Что за ребята? Откуда они прибыли?
- Они командировочные со строительства укреплений против танков. Но их бомбили и все разбежались...
- Ладно, оставьте вы этих ребят. Военкомата там уже нет, да и вряд ли он где-нибудь еще существует. Поступили сообщения, что мы... - следующее слово было так тихо сказано, что я недослышал, но что-то вроде "в окружении". Отвозите их на место и... на совещание.
Вот такой разговор я услышал. Пассажиры брички были самым высшим районным начальством. Бричка тронулась дальше, а наша старуха вернулась, взобралась на воз, бледно-желтая, как воск. Однако, она старалась не высказать своего смятения и, отдышавшись, сказала:
- Это были знакомые из райцентра. Они говорят, что военкомат выехал в другое место, а где он обосновался, пока неизвестно. Так что поедем, поживете пока у нас в доме. А когда я узнаю, где находится военкомат, тогда вас отвезу.
Назад мы ехали быстро, кучер дал волю лошадям, а они, чувствуя возвращение домой, мчали нас без понукания.
Те, кто провожал нас, встретили наше возвращение бурной радостью, как будто мы не были дома лет десять. Женщины наши стряпали. Со старшей связался один из стариков, и порекомендовал Ивану завести роман с другой, она, мол, девица. Старики до захода солнца чинили селянам обувь. А мы с Иваном ходили, как неприкаянные, не зная, чем заняться.
Председатель колхоза, крупный сильный мужчина, тоже не находил себе места, заглядывая по всем углам. Его волновали плохие вести. Мы с Иваном обратились к нему:
- Не найдется ли для нас какое-нибудь дело?
- Если хотите работать, то идите вон туда, за птичник в поле. Там пасутся волы и там же найдете в борозде плуг с ярмом. Запрягайте любую пару волов и допашите начатую делянку.
Пошли мы в указанном направлении. За птичником нам открылся зеленый луг, целина. В луговых травах преобладали клевера густые, сочные, до полуметра высотой. Сытые крупные волы все по парам лежали в траве, жуя свою жвачку. Их массивные туши не были видны из травы, только мерно качающиеся рога. Иван принес ярмо, и мы надели его на лежавшую пару. Гоны были длинные, а волы двигаются медленно. Но мы их не понукали, спешить некуда. Обошли три круга. Слева в десяти саженях было поле конопли высотой в два с половиной человеческого роста. Стебли толстые. Стоит стеной от поля, которое мы пахали.
В десять часов утра мы увидели солдата. Он вышел из конопли, и, озираясь по сторонам, словно крадучись, быстро пошел в село. За ним стали выходить много солдат, без винтовок и шинелей. Все они, крадучись, спешили в село.
Мы дали отдохнуть волам, сделали еще три круга, и снова начали отдыхать. Поток выходящих солдат почти прекратился. Изредка лишь пройдет один, стараясь быстрей добраться в село.
- Пойдем, посмотрим, что там в конопле.
Оказалось, что там были брошены винтовочные патроны, солдатские каски. Взяли мы по винтовке, в рубахи набрали патронов. Потом сходили еще раз, про запас взяли еще по винтовке и в рубахи патронов и спрятали в густой траве вишняка.
Волов мы отогнали к их сородичам, а сами занялись стрельбой. Местность между коноплей и непаханой полосой превратили в полигон. Ровная местность просматривалась до самого горизонта, так что случайно появиться перед нашими винтовками живые существа не могли. Отмерили 200 шагов, воткнули в землю палки, надели на них по каске, и начали стрельбу. Она проходила азартно. Одна за другой изрешеченные пулями каски слетали в выемку под вишней. На ее место надевали новые. Время летело быстро, и мы опомнились, лишь когда солнце начало цеплять верхушки деревьев. От пороховой гари высохло во рту, почувствовался голод. Мы спрятали в укромном месте винтовки и пару ведер патронов, как запас на завтрашний день. Сделали все, "как надо", казалось, хорошо, и пошли домой.
На колхозном дворе возле дома, где мы жили, в сборе была вся дворня: конюхи, скотники, птичницы, ковали, слесари, конторские работники, наши сожители по дому, наконец, председатель колхоза и кладовщица. Кроме того, сюда собралось полсела любопытных и страшащихся: ведь за селом целый день шла стрельба, значит, идет бой. И как быть в таком случае? Дворовые даже начали оплакивать меня и Ивана, они ведь знали, что мы пахали именно там, где начался бой, и, наверное, попали под пули. Когда же мы появились перед ними, как ни в чем не бывало, живые и невредимые, все окаменели. - "Живые!" - вырвалось из десятков глоток, удивленно и радостно. Люди ринулись к нам и окружили плотным кольцом. Первым около нас оказался председатель колхоза. Высокий, плотный, с круглым лицом и начинающейся лысиной, он спросил дрожащим голосом: "Где же вы были?"
- Как где? Пахали, потом были на том же поле.
- Там целый день идет бой, как же вы там могли быть?
- Никакого боя там не было. Мы пахали, пока не уморили быков, потом пустили их пастись, а сами взяли в коноплях брошенные винтовки с патронами и учились стрелять в цель...
Толпа загалдела. Одни нас ругали, другие смеялись, острили, некоторые рекомендовали снять штаны и выпороть, как следует, чтобы больше не нарушали мирную жизнь села.
- А, трясца Ваши мати - незлобно, по-женски выругался председатель.
- Вы ведь перепугали все село. Все уверились, что под селом идет бой.
Потом мы пошли ужинать, а люди еще долго обговаривали случившееся. А утром председатель уже не разрешил нам идти пахать:
- Сидите здесь. Кушать дают, понадобитесь, работу вам дадут. Отдыхайте пока.
К сапожникам приходили селяне и, узнав, что мы томимся без работ, одна тетка попросила, чтобы мы перевезли материал из старой ее материнской еще хаты к ней, т.к. мать перешла жить к ней. Потом к нам еще многие обращались, особенно вдовы, и мы работали, ни с кого не беря никакой платы. Ведь в колхозе нас кормили, а ничего больше нам и не требовалось. Правда, у одной хозяйки оказалось много связанного в снопики пахучего табака, и разрешила нам взять, сколько хотим. Так мы его листьев натолкали целую наволочку.
Здесь прекрасная родючая земля, и колхозы вдвое богаче, если сравнивать с нашими. По всему богатство видно. Постройки кирпичные, капитальные. Животные упитанные и люди благодушные. Правда, люди лишены информации. Радио забрали, газеты не приходят, народ питается слухами, а слухи ходят разные. Так что люди жили обещаниями официальных крикунов, что "враг через Днепр не пройдет", что его "утопят в Днепре" и т.п. И хотя тревожные слухи не прекращались, но люди верили официальным заверениям и жили хоть не твердой, но надеждой.
Чем объяснить, что власти под угрозой строгой кары забирали радио? - Только тем, что боялись, что враг по нему повторит ту правду, о которой они и сами догадывались, но держали про себя. А почему руководители боялись правды? Потому что правда эта в том, что их злодеяния, человеконенавистничество и преступления никаким законом не писаны.
Дорога в ад.
А мы с Иваном чем жили, на что надеялись? После поездки в военкомат и услышанном разговоре иллюзий у нас не было. Но все же мы надеялись, что председатель сельсовета узнает, где военкомат и посоветует, как нам дальше быть и что делать. Ведь она - власть, а властям мы привыкли верить. Несколько раз мы пытались увидеть ее и посоветоваться, но поняли, она нас избегает:
- Убегает, как корова от оводов, - сказал Иван.
Делать нечего, пока кормят, живем здесь. Но как-то утром прибежала к нам кладовщица, взволнованная и напуганная. Должен сказать, что она очень привязалась ко мне, хотя прямо про то ничего не говорила. Так вот, она сообщила, что в селе уже полно немцев и что они ходят по хатам и выискивают чужих, т.е. тех, кто не живет в селе, и угоняют куда-то в лагеря. Потому она предложила нам спрятаться, а потом приписаться в этом селе как постоянные жители.
Нет, уж раз немцы здесь, от них не спрячешься, нужно бежать. Теперь нам стало известно, что местность Пирятин-Ягодин была длительное время в окружении, и за это время фронт далеко ушел на восток, что нам его не догнать и к своим уже не пробиться. Вот тогда мы и решили возвращаться домой, а значит, идти к Днепру. Но как туда попасть? Днем показываться невозможно, по дорогам ездят мотоциклисты. Выпустил автоматную очередь, убил и поехал. Приходилось днем спать где-нибудь в пшенице или кукурузе, а ночью идти. Конечно, случайно встречавшихся мужчин или женщин спрашивали про направление на Днепр, но попадались и такие, что показывали совсем в противоположную сторону.
Кому верить, куда идти? - Так и плутали вокруг этой местности. Утром делали себе постель среди пшеничного поля, завтракали пшеничными зернами. Они хрустели на зубах, как камни. Насытившись - засыпали. Ночью же шли по звездам. Жажду утоляли росой с листьев кукурузы, свеклы, лопухов и иных бурьянов.
Выморенные и отощавшие, в конце концов, мы вышли к Днепру. Нашего берега и не видать. Сердце сжалось - мы, степняки, жили все возле пруда, в котором старой жабе по колено. Ни плавать, ни нырять не умеем. А здесь ширина, берега не видно. Как преодолеть такую водную даль? Ходили мы от хаты к хате по- над Днепром. И лодки есть, и люди есть. Но никто не дает лодки, и перевозить нас никто не желает. Только посылают один к другому: мол, идите, там такой-то перевезет. А тот направляет к другому. Ходили мы, ходили взад и вперед, но так ничего и не добились.
- Надо лодку украсть, тогда в тихую погоду переплывем сами. На том и решили. Началось новое хождение, теперь с целью присмотреть, где лодку можно отцепить. Но и эта задумка ни к чему не привела. Везде лодки прикручены к железному рельсу, вкопанному в землю, толстой цепью с тремя огромными замками, или к растущему дереву. Да вдобавок возле лодок привязана собака величиной с теленка. И поняли мы: нет, не достать нам лодки.
В одном селе посоветовали нам пойти к Демьяну, он - перевозчик. Нашли мы того Демьяна. Сухой, маленький старик грелся на солнце. Его мучила одышка, плоская грудь ходила ходуном, как ковальный мех. Он плохо слышал, и просьбу свою нам пришлось излагать, наклоняясь к его уху. Выслушав, старик спросил:
-А чем вы заплатите?
Мы с Иваном имели при себе по одеялу из верблюжьей шерсти, по две простыни и по наволочке. В одной из них тащили табачные листья. Вот это богатство мы и предложили старику за перевоз - больше ничего нет. Он оскалил свой беззубый рот вроде улыбки и переспросил: "Вы что, ненормальные, или набитые дураки? "
- Почему, дедушка? Одеяла верблюжьи, дорогие, да и простыни что-то стоят.
- Вот я и говорю, сами вы верблюды. Ослы. Это кто же из-за вас будет рисковать своей жизнью за такую ерунду? Вам туда надо, а немец пульнет со своей стрекозы, и вас нет. Но пусть, вам туда необходимо, рискуйте, А мне-то какая нужда рисковать жизнью?
- Ну, дедушка, что же тогда голову морочить. Так сразу бы и говорил, что, мол, не повезу, потому что смерти боюсь.
- Нет, я могу везти, могу рискнуть, только за это вы должны мне платить золотом.
- Да мы, дедушка, в своей жизни и не видели, какое оно есть...
- Тогда и идите спать в солому.
- Эх, дедушка, старый ведь, скоро к Богу, а ты душу свою теряешь...
- Обойдемся, каноны я знаю...
Так и ушли мы от деда Демьяна ни с чем. Ходили голодные, злые. Просить есть стеснялись, а хозяйки сами предложить покушать не догадывались. Но спрашивать каждого встречного, как переправиться на ту сторону реки, вошло в нашу привычку. Однажды попали в гурт женщин, стиравших белье. Они-то и сказали нам, что километров за 15 отсюда есть паромная переправа. Идите туда, и вас перевезут паромом. Мы последовали совету женщин, пошли в указанном направлении.
И вправду, дошли до паромной переправы еще в первой половине дня. Шло сюда множество народа. Ближе двух километров к парому нельзя было приблизиться, столько народа, телег и всякой всячины. Мы с Иваном сразу стали пробиваться к парому. С большими усилиями пробились ближе и в четвертый его заход приход втиснулись-таки на него. Паром сильно перегружался. Цепляясь за оградку в воде даже плыли люди. С середины же реки стало видно место, где выходили люди с парома. Потом берег вздымался трехметровой кручей, с правой стороны которой виднелись кусты лозы. И более там ничего не было видено, кроме желтеющей кручи: ни человека, ни твари какой. Пустыня, и только.
Но вот паромщик приблизился к причалу, легонько качнулся и остановился. С парома по извилистой дороге, глубоко прорытой в песке, потекла река человеческих голов. Но когда пришло время и нам выходить на кручу и увидеть, что там делается, то сразу стало муторно. Здесь оказалось много немцев. Из общей толпы они отделяли женщин и отводили их далее влево. Туда же направлялись и повозки. Мужчин, большинство которых было в военной форме, стариков, подростков и даже мальчиков 9-11 лет, всех строили в колонну по пять человек. Попали в колонку и мы. Когда, будучи в колонне, мы вышли на возвышенность, то увидели, что эта колонна достигает горизонта и уползает куда-то за него. По обе стороны колонны немцы на гарцующих лошадях с автоматами и пистолетами на поясах, у каждого к седлу привязан поводок от овчарки.
- Вот мы и попали в ад, - грустно изрек Иван.
- Да, - сказал один бывший боец, - только ад еще впереди, а это только дорога к нему.
Эта мрачная колонна состояла, в основном, из военных, хотя были в ней и дряхлые старики, и подростки. Выходить из колонны по надобности не разрешали, два шага в сторону, и автоматная очередь срезала нарушителя. Позади колонны ехали два фрица. Отставшего на несколько шагов от колонны поднятый на дыбы конь бил подковами передних копыт в спину. От сильного удара жертва падала, как подкошенная. Тогда немец вынимал из кобуры наган и с гарцующей лошади стремился попасть в голову. После удачного попадания дул в ствол и прятал пистолет в кобуру. Конечно, жертвами были в основном старики, но было много и молодых, по какой-то причине не поспевавших за колонной.
Позади колонны вся дорога была усеяна трупами. Случалось, что смельчаки решались бежать. На таких спускали овчарок. Должно быть, эти псы были приучены есть человеческое мясо, и как только настигали жертву, в мгновение от нее оставалась лишь кучка окровавленного мотлоха. Это истязание, видно, более всего действовало на людей. Было страшно, очень страшно.
Села обходили стороной. Стремились гнать открытой местностью. Проходили Кагарлык. Жители поселка стремились дать кусок хлеба, огурца, но падали от автоматных очередей. И те, кто давали, и те, кто стремился взять. Помнится в темноте гвалт собак, бешеное гаркание немцев. Сначала трудно было что-либо понять, потом выяснилось: нас загоняют в какое-то большое здание - то ли казарму, то ли школу. Света нет, помещения буквально натолканы человеческими телами. В окнах взамен стекол - железные листы. Грудь сдавлена так, что ни выдохнуть, ни вздохнуть. Ночью многие задохнулись от нехватки воздуха. Да и какой тут воздух: ведь двое суток мочились и испражнялись прямо в штаны. На третьи же сутки все это испарялось и стало воздухом. Слава Богу, в четыре часа утра открыли дверь. Даже у нас с Иваном от свежего воздуха на какое-то время было обморочное состояние. Русский в коридоре сказал:
- Выходите. Там, во дворе будете проходить возле большой кучи барахла. Себе можно оставить только пачку табака и коробку спичек. Остальное все бросайте в кучу. Нельзя при себе иметь бритвы, нож, иголку - за все смерть. Помните: только пачку махорки и коробку спичек - еще раз повторил нам переводчик (или кто он там был?).
Когда душегубка эта освободилась от живого, и остались только мертвые, мы с Иваном переобулись. Угол простыни на ногу и ботинок, остальное вокруг ноги и на пояс. Так мы решили сохранить четыре простыни. Крепко подтянув пояса, мы и табак из наволочки разместили в пазухах. Осмотрев один другого, выбежали во двор.
От коридора метров на 20 шла асфальтовая дорожка, в конце которой стоял огромный котел, по обе стороны дорожки в шахматном порядке стояли немцы с палками или резиновыми шлангами. Бегущему по дороже следовало увернуться от ударов, и редко кому это удавалось, а немцы стремились, чтобы никто не мог уйти без удара. И в этом они преуспевали. Добегая к котлу, останавливаться было нельзя. Мужчина, стоя на высокой скамейке, деревянной лопаткой черпал густую перловую кашу и клал тем, кто что подставит. И тоже стоят два немца с палками, тоже бьют.
У меня никакой посуды нет, и потому подставляю соединенные ладони. Каша горячая, обжигает руки, но я ее не упустил, а быстро сорвал с головы фуражку - и кашу туда! Свалил. Но за это время немцы успели-таки нанести мне несколько ударов пониже спины.
Фуражку я надвинул снова на голову, кашу теперь можно съесть в свободное время, а сейчас надо увертываться от ударов. Еще пробежать метров сто, и там, в строю, не бьют.
Мы подбежали к куче разных вещей, бросаемых несчастными. Она была огромной, высотой с первый этаж и диаметром не менее 20-ти метров. Подбежав к куче, мы бросили туда свои наволочки с нашими одеялами и домашними ботинками и рванули было дальше. Но фриц остановил нас. Мы обмерли: неужели он заметил у нас набитые запазухи, в глазах мгновенно помутилось. Ведь смерть. Но немец почему-то не стрелял, а палкой указал на какие-то лохмотья, лежавшие в куче. Первым сообразил Иван. Он взял с кучи то, на что указывал немец и быстро одел на себя тот довольно замызганный, с дырами ватник. Тогда и я взял из кучи указанное немцем и быстро надел на себя. Это было зимнее полупальто, довольно поношенное. Сукно серое, вытертое и белый, с вытертой шерстью бараний воротник. Вдогонку получив по палочному удару, прибежали в строй. И только здесь съели свою перловку. А вскоре нас прогнали на станцию.
Там посадили в угольные вагоны. Вагоны были без крыш, в рост высокого человека. А натрамбовали в них людей так, что руку, оставшуюся у туловища, нельзя было высвободить. Ногу подними, останешься во взвешенном состоянии.
Между вагонами сверху устроены небольшие площадки. На них разместились гитлерюгенды, пацаны лет по тринадцати, но в военной форме, на рукавах, груди и пилотках - черепа с перекрещенными костями и фашистские свастики. Вооружены автоматами и длинными капроновыми удилищами. Сидя на этой площадке между вагонами, еще не оперившийся хищник мог бить по людским спинам в обоих вагонах. Один - до полвагона, a с другой площадки второй достигал вторую половину вагона. Так достигалось перекрещивание ударов по всем вагонам, и укрыться не было никакой возможности. Ехали мы только в согнутом состоянии. Стоило чуть приподнять голову или шевельнуть плечами, как удилище падало на согбенные спины и головы. Человеческий кал и моча, нагретые преющими телами, испаряясь, доводили людей до удушья.
Трое суток продолжалась эта пытка. Наконец, ночью где-то выгнали из вагонов. Ноги так распухли, что обувь лопалась не только по швам, но и на местах, где не было швов. Но, не дав отдохнуть, снова погнали, на этот раз по шоссейной дороге. Распавшаяся обувь не держалась ногах. Но мы с Иваном все же не потеряли ее на дороге, таскали при себе. Ночи становились все холоднее, а в иную ночь случались заморозки, и мы надеялись свою обувку хоть связать как-то. А сейчас - еле двигались по острым твердым камням. Ноги стали, как битые валенки, налились свинцом, и не было сил оторвать их от земли, сделать шаг. Но надо идти: пока движемся - живем. Упасть - значит, быть убитым. Так и тянулся этот длинный, как показалось, путь. Наконец, загнали нас в какую-то загородку. Разбираться не было ни времени, ни сил. Как зашли, так все и попадали, и угроза смерти теперь нас не подняла бы на ноги. Потом некоторые приподняли ноги, чтобы быстрее избавиться от отеков. Я забылся...
Может, часа через два или три-четыре меня растолкал Иван. Я услышал песню "Яблочко", исполняемую какими-то жалкими голосами, хриплыми, писклявыми, невнятными. Кому же это так весело тут живется, что на песни потянуло?
- Да, потянуло! Поверни голову, посмотри, что делается!
Я с большим усилием повернулся на бок и посмотрел, откуда раздавалась песня - и от увиденного меня охватил озноб - как будто десятки тысяч муравьев влезли под кожу. На небольшой площадке, примерно десять метров на десять, правильными квадратами примерно через полметра стояли мужчины разных возрастов. Там были совсем голые, иные в исподних рубахах, иные только в кальсонах. "Рубахи" и кальсоны - говорю условно, потому что у них на телах остались только отдельные клочья и ленты.
Все до единого были босы. Площадка цементирована и густо засеяна мелким битым кирпичом. Вокруг несчастных стоят немцы с палками. И все это освещается яркой электрической лампой, пристроенной на балконе казармы. Не менее ста человек вот так поют, вернее, воют, и в такт этому пению притоптывают босыми ногами по острым камням. Тех, кто притоптывает слабо, выводят с площадки и бьют по голеням и косточкам ступни. На другой день мы увидели это место. Вся площадка и щебень были залиты кровью. Что же сделалось здесь, с людьми? Потеряли все людское, жалость, милосердие. Почему так зверски настраивается человек к человеку? Ведь над животными он не будет так издеваться. Конечно, животных он режет, колет - это выработалось веками, для пищи, но издеваться, истязать животное - никто не делает. Почему же он тогда истязает человека? Слабого, не имеющего власти, не причинившего никакого зла истязателю? Да они-то раньше и не встречались на своем веку. И вот - убивает, мучает, наслаждается страданием мученика и, насладившись его муками и страданием - убивает. Почему ни одному мучителю-убийце не спросить себя: а что было бы, если бы на месте истязаемого был бы я? Что было бы?
Нет, такие вопросы в голову сильного в момент его зверства не приходят, а надо бы...
В аду.
Он являл собой огромный четырехугольник, огороженный колючей сеткой высотой пять метров. На каждом его углу - вышка с площадкой для часового, пулемета и прожектора. В одном из углов установлен во всю высоту, шириной метров шесть, щит из толстых досок. Возле щита установлены два котла в два человеческих роста. Со щита над котлами торчат концы двух труб по 20 см в диаметре. Днем из этих труб откуда-то снаружи, за щитом не видно, течет вода.
В противоположной от котлов и щита стороне устроены крепкие сетчатые ворота. Сюда люди заходят в ад, чтобы погибнуть с голода. B центре четырехугольника громадные, особенно в длину, трехэтажные здания. Говорят, это бывшие военные казармы. Со стороны щита по линии угла казармы три ряда ящиков, примерно до сорока метров. Это туалет под открытым небом. Ящики в кровавых лентах, но пустые.
И еще мертвая зона. Территория вдоль стен колючей проволоки шириной в 5 метров. Полшага в эту зону, на вышке срабатывает пулемет, и нарушитель падает мертвым. Все же остальное пространство набито мужскими телами. Лагерь этот назывался Бердичевским, хотя, сколько видел глаз, на горизонте не было видно ни одного населенного пункта.
Утро начиналось в четыре часа. Многие люди была разуты, раздеты, или очень плохо одеты. По ночам же часто примораживало. На свежем воздухе, без всякой подстилки и одежды, было холодно. Потому на ночь многие стремились попасть в казарму. А утром в четыре часа немцы выгоняли всех из помещений. Начиналась уборка трупов. К казармам подгоняли три арбы - каждую арбу тянуло пять человек. Выносили трупы, наполняли арбы, а потом отвозили к глубокому провалу и там сбрасывали. Убрав мертвецов из помещений, убирали территорию лагеря, работа эта начиналась в 4 часа утра и кончалась, когда наступала полная темень.
Задолго до утра по всем территории начиняли строиться по пять человек в ряду локоть в локоть - одни ряды, другие, третьи. В общем, весь лагерь во всю ширину и длину как бы находился в строю, хотя ширина этого строя составляла не менее четырехсот метров. Если бы такую колонну поставить в очередь по пять человек, то ее длина была бы не менее сорока километров. Читателю представляется возможность вообразить, когда же люди, находящиеся в середине колонны, могли получить свой черпак воды? А те, кто попадал в последние ряды колонны? А мы с Иваном даже не подозревали о какой-то очереди. Но после пятидневного толкания в толпе, мы нашли односельчан. Это была для нас неожиданная радость - свои, да еще и пожилые люди! У нас возникла какая-то надежда на их опыт и возраст.
После бурных излияний радости встречи, мы узнали, что они находятся здесь уже более двух с половиной месяцев и совсем ослабли. Нет сил передвигаться - ноги пухлые. Их было трое; дядя Миша, пятидесятитрехлетний колхозник, Алексей Сергеевич, сорока шести лет, бывший мой учитель третьего класса, третий - Валентин Маламуж, бывший студент четвертого курса. Часто я видел его на переменах, а главное, он мог крутить тарелки на острой палке. Он был старше меня и Ивана на 5 лет.
У нас сохранилось немного табака, и мы не мешкали закурить ради встречи. Мы с Иваном завязали остатки табака в тряпку и очень берегли его, чтобы не потерять. Уже давно не курили - не было бумаги и огня. Конечно, мы спросили у найденных друзей, не имеют ли они бумаги, чтобы закурить.
- А что, у вас есть табак?
- А покажите мне,- попросил дядя Миша.
Мы дали ему узелок с табаком. Он развязал его, понюхал содержимое и сказал:
- Да, ребята, табачок пахуч, очень хорошо, что вы приберегли его, теперь я не позволю вам травить свои организмы, и так убитые голодом. С этими словами он запрятал узелок подальше, под шинель. Мы смотрели на него с недоумением и обидой.
- Ничего, потом поймете, в чем дело,- сказал он, лукаво подмигнув.
- С этого момента, ребята, мы родные братья, и будем друг о друге заботиться, о всех, как о себе, тогда мы не пропустим какой случай и выживем в этом аду. Предлагаю вот это место считать нашей постоянной "квартирой". Здесь будем проводить ночь. Куда бы кто ни ушел, он должен являться на это место. Так мы не потеряем друг друга в этих людских тысячах.
"Квартирой" было место на углу туалета под открытым небом. Ящики были пусты и зловония не было слышно.
- Если бы был огонек, мы покурили бы.
- Огонь у меня есть,- сказал Валентин,- а где вот взять бумагу?
Валентин любил физику и первым в селе сделал ламповый радиоприемник. На фронте ему случилось найти снайперскую винтовку с разбитым оптическим прицелом. От него он отвинтил уцелевшую линзу и потому так уверенно сказал, что огонь у него есть. Бережно вынул из нагрудного кармана тряпку, в которой была замотана линза.
Дядя Миша выбрал из щебенки покрупнее кусочек кирпича, на ровную поверхность положил щепотку табака - и дал Валентину зажечь линзой от солнца. Валентин сначала зажег кусочек ваты, вырванный из подкладки пальто. Потом на уголок кучки табака насыпал золы и навел свою линзу. Тертая масса задымилась, и сразу воздух наполнился приятным запахом табака. Все жадно вдыхали дым. Вокруг нас образовалась сильная давка. Каждому хотелось хоть издали вдохнуть табачный дым. Табак быстро сгорел, но толпа давила нас со всех сторон, не унимаясь. Потом долго корили себя за допущенную ошибку - ведь нас могли раздавить. Разве в такой обстановке можно открыто показывать что-либо, подобное табаку.
Всем была поставлена задача: найти банку, бутылки, чашку, в общем, найти посуду, с которой можно было бы пробиваться к котлам. Несколько дней поисков увенчались некоторым успехом. Нам удалось найти две банки литровой емкости. Дядя Миша, Алексей Сергеевич и Валентин до нашего еще появления здесь пробовали пробиться к котлам, но их старания ни разу не увенчались успехом. Полмесяца они с утра до поздней ночи отдавливали себе бока и грудь в страшной давке, но до котлов так и не доходили. Потеряв всякую надежду добыть литр "супа-воды", они к дальнейшим пробам относились скептически.
Мы с Иваном надеялись пробиться к спасительным котлам. Шесть суток пробыли мы в толкучке, передвигаясь вперед по миллиметру, а иной раз откатываясь назад на пять метров. Люди здесь, сдавленные со всех сторон, просто засыпали, падали обессилевшими под ноги других. Ослабевшего как бы затягивали, удавливали вниз, чтобы занять его место. У многих грудная клетка трещала так, как спицы колес груженой телеги на крутом спуске. Мы с Иваном прокляли свою дурную непослушность. Ведь старшие наши друзья отговаривали лезть в ту душегубку. Теперь же делать было нечего, мы дотолпились до того, что ни вперед, ни назад не могли сдвинуться. И все же сила массы сделала свое дело, и нас притолкло все же к котлам в общем потоке. Удалось получить по баночке пойла.
От котлов шли стороной. Здесь уже стоял фриц с нагайкой и в какой-то мере наводил ею "порядок". Мы немного надпили из своих банок, потому что донести полными все равно не дадут. Осталось по полбанки у каждого, и мы берегли их, как зеницу ока.
Придя в свою "квартиру", мы были встречены с радостью старшими друзьями, что возвратились живыми, да еще с драгоценной влагой. Дядя Миша за щепотку табака у кого-то выменял граммов 200 хлеба - и нам вручили ожидавшие нас маленькие пайки.
Одну принесенную нами баночку пойла дядя Миша распределил на троих, и все жадно глотнули свою порцию. На нас с Иваном не делил, мы свое выпили на месте. На донышке банки осталось не более двух столовых ложек сырой гречихи, смешанной с просом. Вернее, это был отсев гречихи и проса, как говорится, пужина, пустые коробочки. Эту пужину дядя Миша распределил каждому по кучке, строго предупредив не глотать ни одного зернышка, а, разжевав, высосать все, что можно, а оставшуюся лупу - выплюнуть.
- Вон, видите, все ящики окровавлены? Этим нелюдям, оказывается, мало смертей от голода, так они стараются убивать людей, играя на их голоде. И для этого дают необработанные зерна гречихи и проса. Лупа с гречихи не перетирается, сбивается в твердый, как камень, комок с торчащими наружу остриями гречихиных чешуек, острых, как бритва. Проходя по кишечнику, такой комок на ленты разрезает кишки, и от того человек в страшных мучениях умирает.
Болела голова, болела грудь, все тело болело. Несколько дней мы с Иваном держались у своей "квартиры", отдыхали после толчеи. Дядя Миша и Алексей Сергеевич с Валентином тоже мало двигались, больше лежали у квартиры.
С каждым днем наши небольшие, ничтожнее почти силы убывали. Никакой надежды на выход из этого ада. Постепенно нашими душами овладевала апатия, равнодушие ко всему окружающему. Вокруг трупы, трупы, а людей не уменьшается. Мертвых вывозят, а живых все пихают сюда и пихают. Конвейер действует, как часы.
Бродя по лагерю, куда только можно пролезть в надежде найти что-нибудь съестное, возле одной казармы на балконе мы увидели старого человека с лысой головой и длинной седой, острой бородой. Он размахивал рукой и что-то, наверное, говорил, но до нас его слова не долетали. Но по лагерю разнеслась после этого молва, что постепенно будут выпускать из лагеря людей из западных областей. Навряд ли кто-либо поверил в такое чудо, но почувствовалось какое-то оживление. Оказывается, некоторые люди в лагере имели кое-какие продукты. Появились меняльщики: за золотые перстни и крестики начали менять буханку хлеба, крупу, узелки зерна, даже иногда предлагали сало. Но обладателей золотых вещей, наверное, было мало, потому что меняла перешли на обмен барахла. Разную одежду - пальто, материю. Но, конечно, все должно быть новым.
У нас с Иваном, как было уже сказано, еще оставались по две простыни. Они немного загрязнились, но все же видно было, что еще не стираны. За четыре простыни нам удалось выменять два килограмма перловой крупы. Радовались все... подумать только: два килограмма крупы! Но воды не было, разводить огонь не было с чего и где. Дядя Миша с кусочка жести соорудил мерку граммов на десять. Теперь на ночь мы получали крупу. Она была такая твердая, что при жевании крошились зубы. Я, Иван и Валентин жевали, а что не могли прожевать - так глотали. Дядя Миша и Алексей Сергеевич свои порции растирали кирпичами и ели муку вместе с глиной.
Несколько раз мы с Иваном пробовали дойти до котлов. Но, подавленные со всех сторон, обессиленные, добирались до квартиры и там отдыхали. Потом мы увидели, что между казармой и воротами всегда строится колонна в тесные ряды, и люди здесь простаивают с утра до поздней ночи. Что это? Мы с Иваном, как обычно, толкались по всему лагерю, наблюдая, что где происходит.
Завели знакомство с несколькими парнями из Западной Украины. Несколько ребят клятвенно заверяли, что слышали от своего земляка (он работает в лагерной охране), что коменданту лагеря пришел приказ понемногу выпускать гражданских лиц из лагеря, но только жителей Западной Украины. На всякий случай мы выучили на память несколько адресов. С этих пор наша постоянная "квартира" "пустует". Мы с Иваном тащим своих старших друзей в этот строй и простаиваем в нем до ночи... Строй (ожидающих выхода) в десять шеренг плоский, один другого давит и боится, чтобы его не выдавили из строя. Обратно не войдешь.
Так проходили дни, недели, а никого не выпускали. Но люди все строились, ведь все равно, где быть. Дядя Миша, Алексей Сергеевич, Валентин, наконец, не захотели более отдавливать себе ребра, сил у них больше не было на строй. Но мы с Иваном упорно каждое утро шли и выстаивали целые дни.
В одно утро толкотня поднялась ужасная. Почему-то очень много людей стремилось в строй. Мы с Иваном занимали всегда место возле своих новых, западных, друзей, и тут они потеснились, освобождая наши места. Вдруг все зашевелилось. Показались немцы с палками и автоматами. Они окружили квадрат, в котором находились сотни людей. Вокруг этого квадрата образовалось пространство около двух метров. Со стороны ворот палками и автоматами работало десятка два немцев. Они оттеснили в сторону людей и по образовавшейся пустоте к воротам начал двигаться строй, в котором были и мы с Иваном. Ворота распахнулись, колонна вышла за ограду и ворота сразу захлопнулись. Все произошло в такой суете и так неожиданно, что мы с Иваном и подумать не успели, как же теперь там остались односельчане?
Но был еще один страшный вопрос: А куда нас? Отпустят домой или сразу поведут к оврагу, а там...
Наш квадрат остановился возле небольшого домика недалеко от ограды. С левой стороны стояли три скамейки из досок. Колонну остановили перед этими скамейками. На одну из них взобрался русский лет тридцати. Он обратился к колонне:
- Кто умеет читать и писать немецким шрифтом, выйдите из строя и постройтесь на правой стороне!
Все молчали, опустив головы вниз.
- Что? Никто не владеет способностями писать и читать на немецком языке?
Все молчат.
- Раз так, придется вас обратно отвести в лагерь. Без пропусков - аусвайсов - мы вас отпускать не будем, а у нас некому их выписывать.
В колонне зашевелились, и человек восемь вышли и построились справа. Иван толкал меня, но я не поддался. Черт знает, что они придумают, и Иван, сердясь, вышел сам в надежде, что сам выпишет пропуск, и мы быстрее уйдем от этого проклятого ада. Какие чувства испытывали люди, пробыв в условиях, из которых потеряли надежду выбраться, и вдруг почувствовали, что все, может, позади?
Кратко скажу о себе. Я даже не почувствовал, а далеко упрятанным сознанием понял, что, может, все же выживу - но не возрадовался. Почему-то охватила полная апатия ко всему. Хотелось лечь на травке, свободно раскинув руки, отдыхать, ни о чем не думать. Не было даже чувства мучительного голода и жажды. Организм высох до такой степени, что мышц не осталось - только кожа и кости. В одном колхозе кладовщик сам полюбопытствовал нашим весом. Я весил 39 кг, Иван - 41.
День тянулся мучительно долго. Что-то медленно выписывали проклятые аусвайсы. Выходить из строя не разрешалось. Подходили записывать адреса каждый раз к своему писцу, садиться не разрешалось. Мучила неуверенность. Додержат, мол, нас до темени, а там откроют ворота - и все тут. Сделали видимость, что выпускают, а на деле впихнут снова в лагерь, ведь каждый день сотнями гонят и гонят за ограду все новых людей.
Солнце почти касалось крыши казармы, когда нам раздали пропуска. Выстроили в тот же квадрат и, став на скамейки, несколько немцев через переводчика толкали напутственную речь. Я ничего не слышал. В голове гудело, ноги подламывались. Только помощь товарищей, стоявших по бокам, удерживала меня от падения. Наконец, все людские глотки рявкнули что-то воющее или лающее, после чего, очевидно, старший немец залаял, как охрипшая овчарка - и стоявший квадрат людей исчез, в мгновение ока испарился, так что я даже не увидел, куда кто девался.
От ограды шла натертая колесами дорога, так что ботинки (если их можно еще так назвать) скрывались в пыли по голень. Солнце садилось. Если ориентироваться по солнцу, то дорога шла на юго-запад. Но мы никак не могли правильно сориентироваться. Нам все казалось наоборот. Там, где у нас солнце заходило - здесь восход, где должен быть юг, там почему-то север. Но раздумывать времени не было. Задача стояла в том, чтобы побыстрее отойти от этого ада подальше, скрыться от зловещих ворот, которые, как гигантские пасти драконов, глотали тысячами людей и в утробе проволочной ограды перемалывала и переваривала их в прах, в ничто, в еду для червей.
Домой.
На дороге остались только мы с Иваном. Куда же подевались остальные? Хоть бы один человек был, чтобы у кого было спросить, куда мы идем? Но делать нечего - отойдем подальше от лагеря, а там будем разбираться. Рядом с дорогой тянется картофельное поле. Свернули и идем по полю, не отдаляясь далеко от дороги и надеясь найти хоть маленькую и надгнившую картофелину, пусть как горошек, ну,... Но где там... Ведь не одна сотня ног прошла по одному и тому же месту. Ничего найти не удалось. Долго мы шли. Как будто и спешили, а оглянемся: лагерь все еще вот он, близко, как будто движется вслед за нами.
Хоть бы свежей травки пожевать. Но уже поздно, выгорело, ветер и роса сделали свое дело. Даже сухой травы нет. Только рядом с наезженной дорогой редкие кусты полыни, по три-пять стеблей на кусте, со своими густыми соцветиями. Их зерна дурманят горечью. Горечь оседает в носу, во рту и даже становится горько в груди и животе.
Прошел еще какое-то время, и последние силы оставили меня, я свалился на землю. Сколько времени Иван возился со мной, не могу сказать. Но когда прошел обморок, понял, что мой друг изрядно испугался. Слезы на его глазах и радость, что я очнулся, говорили о том, что он думал, что придется проститься со мной. Сам падая от слабости и радуясь, что я жив, он не переставал уговаривать меня дойти до дороги, там он меня на время оставит, а сам пойдет вперед, чтобы принести воды и что-нибудь поесть. Ползком и на коленях дотащил он меня обратно до дороги, положил на край старой свекольной канавы, между кустами полыни, и сам ушел добывать воду и пищу.
Остался я один, беспомощный и слабый. Солнце, будто издеваясь, висит низко над лагерем и как бы говорит: "Я бегу быстрее, чем ты, видишь, вот он, ад, недалеко, и ты можешь снова в него угодить". Я пробую подняться, в глазах темнеет, живот переламывается, ноги дрожат, потом немеют, все куда-то плывет, и я падаю в кусты полыни. Полежав, напрягаю силы, сажусь. Обвожу взором все поле вокруг себя. Везде до самого горизонта - пустота. Иван, и тот исчез, как сквозь землю провалился. Зато лагерь с его вышками, колючей проволокой - так близок.
Всматриваюсь: от лагеря по дороге движется телега, она выглядит пока игрушечной, вроде как в спичечной коробок впрягли два жука. Телега, приближаясь ко мне, все увеличивается. Потом она сделается огромным фургоном. Его тянут тяжеловозы-ломовики. Одно копыто такой лошади, как камень крестьянского жернова. На фургоне сидит немец в поношенной солдатской форме. В одной руке у него вожжи, в другой кнут, которым он слегка понукает то одну, то другую лошадь. С его носа свисает капля и, освещенная солнцем, блестит всеми цветами радуги. В левом углу рта сигарета, с которой временами исходят клочья дыма.
Непреодолимое желание затянуться табачным дымом так захватило меня, что я пренебрег всякой опасностью. Да и раз он не чувствует, что с носа его свисает соплей булька - значит, стар, а от старика меньше риска получить неприятности. Все это мелькнуло в голове само собой, и я решился. Когда фургон был против меня, то крикнул: "Эй, ты, дай покурить!" Немец натянул вожжи, лошади остановились.
- Ком,- махнул мне рукой. Я попробовал подняться и подойти к нему, но ноги дрожали, в глазах темнело, и земля вновь подкатилась подо мной.
Потом он подвел меня под руки к фургону, с усилием втянул меня в фургонный ящик и усадил на доску-сиденье, а сам сел на свое место. Из кармана он вытянул металлическую коробочку, в которой находился табак, курительная бумага и какое-то устройство. На него он положил бумажку, всыпал кучку табаку, крутнул, и вышла готовая сигарета. Мне оставалось только помочить ее слюной, заклеить. Потом он чиркнул зажигалкой, поднес огонь к папиросе. После второй затяжки меня снова кинуло в обморочное состояние. Тогда немец забрал у меня папиросу и выбросил на дорогу. При этом он все время говорил что-то на своем гортанном и рычащем языке. Я же молчал, не зная, как двигать головой, отрицать или соглашаться. У ног его был прикреплен болтами к доскам фургона небольшой деревянный ящик, с большим висящим замком. Он открыл ящик, вынул небольшой сверток, в котором оказался шоколад. Немец отломил мне кусочек, примерно три на три сантиметра, остальное тщательно завернул, положил в ящик и нацепил замок. Потом он взял вожжи и лошади, вздымая свои огромные копыта, потащили тяжелый фургон с легкостью спичечного коробка.
После съеденного шоколада мне стало как-то легче, светлее. Теперь я с любопытством рассматривал чужестранца. Он, действительно, был стар. Из-под нахлобученной на голову шапки торчала редкая белая щетина. Дряблое тело иссушено годами, тонкая шея с висящими вдоль кожаными полосами при каждом повороте головы грозила переломиться, и, отпав, повиснуть на кожаных полосах. Руки, удерживающие вожжи, мелко дрожали, как в лихорадке. Вместе с ними дрожали и вожжи, отчего звенели разные прядки, бляшки на уздечках. Получалась дрожь-музыка.
Наверное, плохо у фрицев с войсками, если в вояки берут такую рухлятину. Я оглядывался назад. Ограда с вышками и крышами казарм постепенно отдалялась и уменьшалась. Когда проехали километра два, я увидел на картофельном роле Ивана. Конечно, он не рассчитывал, что я могу быть на повозке и потому, взглянув на нее, опустил голову в поиске съестного. Жестами я попросил немца остановить лошадей, указав на Ивана: " Мой брат, геносе, брат... "
- Я, я,- лошади остановились. Иван сначала оторопел, когда я его окликнул, потом пришел в себя. Немец предложил ему тоже сесть в фургон, и мы поехали дальше.
Мои волнения об Иване кончились, мы снова вместе, а лагерь уже далеко. Впереди все отчетливее вырисовывалась небольшая дубрава, в которую мы и въехали через полчаса. Оказалось, что это не лес и не дубрава, а бывшая деревня, о которой можно было догадаться скорее по составу деревьев. Здесь росли орехи, яблони, груши, слива, а между деревьями - бугры большие и поменьше. Уже не было признаков помещений, а просто холмики, поросшие крапивой, лопухами, лебедой и прочим бурьяном, высохшие и поваленные на землю дождями и ветрами. Наверное, и бывший житель этой деревни не смог бы уже сказать, где именно проходили улицы между этими хаотичными буграми и деревьями. Еле-еле заметная и малоезженная дорога шла по буграм или между ними, огибая деревья. Проехав немного по этой бывшей деревне, вернее, кладбищу, немец остановился возле избенки на курьих ножках. От бывшей улицы хату ограждал наполовину разрушившийся хворостяной забор. Хатка была небольшой, крытая железом, сплошь продырявленным ржавчиной.
Немец встал с фургона и нам предложил тоже: "Ком!" - Махнул нам рукой и сам вошел во двор. Двор был как будто нежилой, будто здесь никто и не ходит, нет даже тропки к крыльцу, все заросло бурьяном. Но, на наше удивление, перед немцем у самого крыльца, как по щучьему велению, появилась женщина средних лет с тощим лицом в морщинах. Только по темным без седины волосам, выбивавшимся из-под тряпицы на голове, можно было судить, что женщина еще не очень старая. Лохмотья неопределенного цвета висели на ней, как на палке. Черные брови сломлены так, что над большими испуганными карими глазами они висели не дугами, а крючками. Немец обратился к ней, показав на нас:
- Матка, картофель, млеко - мало-мало.
Потом повернулся, сел в фургон и уехал. Мы с Иваном остались стоять. Женщина ушла в избу. Мы присели, надеясь, что она выйдет во двор и как-то мы решим, что делать. Есть очень хочется, но вряд ли у нее есть что съестное. Но хотелось хотя бы попить воды, жажда очень мучила.
Быстро начало темнеть, а женщины из избы так и не выходила.
- Зайдем в хату, попросим воды и уйдем.
Пошли мы в тесную переднюю комнату. С одной стороны плита, с другой - столик. Между плитой и столиком проход в соседнюю комнату. В углу на пне ведро с водой. Воды в нем было мало. В темноте еще можно было слабо видеть предметы - на полочке мы нашли глиняную кружку. Чтобы зачерпнуть воды, приходилось наклонять ведро. Так жажду утолили, но зато чувство голода удвоилось. Женщина из второй комнаты не выходила, делать было просто нечего, на дворе уже с вечера начинался приморозок, идти из хаты не хотелось. Решили под столиком постелить одно пальто, а другим укрыться.
Это была наша первая ночь на свободе, без щебня под бокам, без каблуков, бьющих тебя по зубам и носу, без наваливающихся во сне на голову туловищ, так что прерывалось дыхание. Свернувшись калачиком, грея один другого собственными телами, мы крепко уснули.
Ночью я проснулся и почувствовал удушье от скопившейся в комнате вони, будто я очутился в туалетной яме. Сначала я даже не понял, где нахожусь, и что все это значит. Может, это Иван испачкал штаны? - Нет, у него все в порядке, а вонь не прекращалась. Загадка эта утром разгадалась, когда нас разбудила хозяйка так рано, что единственное окошко еще только начинало подсвечиваться начинающимся рассветом.
- Дети мои, скорее подымайтесь. Вот вам по паре картофелин, по кусочку огурца, больше у меня ничего нет, и поскорее уходите. Я вижу, что вы несчастные дети, и потому признаюсь вам. У меня тут сын, он офицер, но сильно изранен и больной. Я боюсь, что чье-то присутствие здесь привлечет внимание фрицев, и они тогда найдут его и убьют.
Конечно, мы немедленно надели свои пальто, извинились за беспокойство и ушли. Надо было ей сказать это вечером, мы бы тогда ушли сразу. Еще затемно выбрались мы в степь из этого бывшего села. Небо стало пламенеть жаром на востоке. И здесь перед нами возник самый мучительный вопрос: "Как нам идти, в какую сторону? Может, если в этом направлении идти - то будем только отдаляться от своей местности?
Начали мы вспоминать. Больших городов возле нашего села нет. Белая Церковь от нас более 100 км, и Умань примерно так же. Но их надо спрашивать, чтобы хоть как-то сориентироваться. Нам показалось, что где у нас восход, здесь запад. Вот и сейчас солнце почему-то восходит на западе. Но тогда север и юг тоже менялись местами. Решили идти в любое село и узнать, где мы были и что за местность, где находился лагерь, а потом спрашивать людей, как идти на Умань или Белую Церковь. А как оттуда добраться домой, нам уже известно. Конечно, лучше всего было бы найти географическую карту.
Вошли в село и у встречных людей попросили покушать. Нас накормили. Потом мы спросили, как добраться до наших райцентров, но никто и не слышал о таких городах. Карт у наших детей не было, когда они учились, а сейчас вообще никакой бумаги нет. Только в третьем селе нам посоветовали зайти к одному учителю, может, у него есть географические карты.
Последовали мы этому совету. Учитель учил детей до четвертого класса, и у него нашлась географическая карта, на которой были обозначены районные центры Украины. По нашему рассказу мы узнали от людей, что лагерь, из которого мы вырвались, располагался возле г.Бердичева Житомирской области. Это был Бердичевский лагерь для военнопленных. Учитель помог нам выписать самый короткий маршрут, которым мы сможем добраться в свой район, а значит, и домой. Направление мы теперь знаем, у нас осталась одна забота - голод.
Начиная с первой хаты, мы просили кушать. Кто зовет в хату, кормит борщом или молоком, кто дает куски хлеба. И пока пройдем село, едим в трех-пяти хатах. А за подкладку пальто собрали до пяти кг хлеба. Животы стали полными, как барабаны, а есть все равно хотелось. Выходим за село и начинаем приниматься за припасенный хлеб, доедаем его, пока приходим к новому селу, а там все повторяется сначала.
Так было шестнадцать суток нашего пути домой. И странное дело, мы почти постоянно ели в основном хлеб. Он был вкуснее всего, и без сала, сахара и других добавок. Только где-то на четырнадцатые сутки у нас исчезло чувство сильно изголодавшихся. И лишь через несколько месяцев организм вышел из отощавшего состояния и началось постепенное увеличение веса тела.
* * *
Прошли соседнюю деревню, спустились в яр, потом на гору полтора километра - там и родное село.
Как там мама, пришла ли она тогда с центра села домой? Как сестра?
Вхожу во двор и сердце сжимается в больной комок, во рту сухо. Хата маленькая, окна маленькие и еще ниже опустились к земле. На крыше выглядывают латы сгнившей соломенной кровли, как ребра у худой лошади. Перед хатой копна полусгнившей соломы с торчащими стеблями усохшего осота... Вокруг хаты весь двор в высохшем бурьяне. Прямо пустка... перевожу взор на окошко. В нем удивленные лица Нины, Маруси, Гали и Оли, бывшей тогда ребенком. Еще большая тревога разлилась в теле - маминого лица в окне не видно.Отворяю дверь и влетаю в хату.
- Юрко, Юрко,- все бросились ко мне.
- А мы думали, что это за человек стоит во дворе и все
разглядывает. А Оля сегодня, когда пили молоко, кричала: "Остави Юркови!" - И
как она могла знать, что ты придешь?
- А где мама? - вырвалось стоном у меня из груди.
- Мама копает свеклу, она придет поздно вечером, потому что уже часто бывают морозы, и бригадир держит до ночи женщин. Боится, что свекла останется в земле.
После этих слов все напряжение отошло, боль неизвестности прошла и стало легко и радостно: все живы... Нет, не все, Женю я уже и не думал увидеть. За обступившими меня сестрами я не видел лежащего на топчане, а только услыхал всхлипывание. Бросился к топчану: "Женя, ты? Что с тобою, Женя? Я считал, что никогда тебя уже не увижу. Ведь ты стоял на границе, а все знают, что все, кто был на границе, погибли в первые же дни войны».
Позже Женя рассказал: " Еще войны не было, и мы стояли в Карпатских горах. Что там - трудно пересказать словами. Высоко сияет солнце, а под тобою тучи. Или и вверху тучи, и под тобой тучи, а ты как будто паришь между ними, и нет ни земли, ни неба.
Дней за шесть перед началом войны из нашей части несколько подразделений
Оля, Маруся, мама, Юра, Нина, 1953г.
забрали и увезли с границы километров на 150-200. Не могу сказать точно, как называлось то место, только расположились наши части на опушке леса. Потом оказалось, что нашу часть откомандировали для строительства аэродрома. Все там делалось вручную. Щебень равняли, заливали цементным раствором, трамбовали разными трамбовками.
По соседству с нами располагалась танковая часть. Какая именно, мы не знали, но лес кишел танкистами, а грохота танков слышно не было. Пришел строжайший приказ: проверить моторы и гусеницы. В общем, танки были разложены на части. Моторы промывали и ремонтировали. Когда все было разложено, произошла первая немецкая бомбежка. Большие группы самолетов бомбили аэродром и, особенно, танковую часть. За короткое время весь лес был уничтожен вместе с танками и танкистами. Из нашей же строительной части осталось в живых несколько десятков человек, да и те наполовину раненые. Я был контужен. Через какое-то время подогнали полуторки, и нас увезли в кузове. Все страдали там от жажды и боли. Больше ехали ночью, потому что налеты и бомбежки на дорогах были непрерывными. Потом кончилось горючее, и достать его не было никакой возможности. Нас переложили на повозки. Рядом с повозками шли солдаты других частей, неся носилки с ранеными. Солдаты шли без шинелей, многие босиком и без оружия. Винтовки бросали, да они и валялись везде на дорогах за ненужностью - ведь патронов к ним нигде не было. А двигаться надо было все быстрее.
Кроме бомбежек, нам начали досаждать немецкие мотоциклисты. Несколько вооруженных до зубов мотоциклистов догоняли и убивали наших безоружных раненых и голодом ослабленных солдат. Число их на дороге все уменьшалось, как лед на палящем солнце. Однажды командиры какой-то части приказали ездовому оставить нас на попечение селян... "

