|
 |
Смотреть онлайн в браузере (качество 720) Смотреть на YouTube (качество 480) Все слайды на Яндекс.Фото |

|
 |
Смотреть онлайн в браузере (качество 720) Смотреть на YouTube (качество 480) Все слайды на Яндекс.Фото |
 | Машина показаний Южная оконечность Бутырского острова выкрашена в государственный жёлтый цвет и отдана под кабинеты оперов и следователей. Здесь из подследственных выдаивается информация для осуждения самих зэка и их друзей. |
 | Если смотреть на бутырский санаторий с севера, то за зелёным Домом культуры МВД видим гостиничные окна спецкорпуса. Но тысячи людей сидят в нём не весёлыми гостями, а мрачными и подавленными от будущего суда и длинных сроков, от поломанной навсегда жизни, от рассказов бывалых лагерников и, зачастую, по совместительству стукачей. И чем больше времени они сидят, |
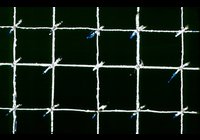 | тем больше выдают нужных следователю показаний. Просто от сидения. Как пускает сок раздавленная и переспевшая ягода, превращаясь потом в лагерное вино и уксус. Бывают, конечно, исключения, но они лишь подтверждают правило, и потому следователи держат своих подследственных здесь до последней возможности. |
 | И течёт этот сок по бутырским общаковским коридорам, оседает в следовательских кабинетах. Улавливается в доносах и протоколах. Выходной цех бутырской давильной фабрики как раз и расположен у фабричных, тьфу, тюремных ворот. |
 | Вся беда в том, что для заключённого следователь оказывается единственным человеком из прежней, свободной жизни, только через него возможна связь с родными – и в этом, его сильное оружие. |
 | Через 4 месяца сидения здесь и я стал давать показания о себе. С облегчением сказал: «Да, у меня буржуазно-коммунистические взгляды, я писал книгу и статьи под псевдонимом К.Буржуадемов». С радостью освобождения брал на себя ответственность и за материалы «Поисков», и за сборники «В защиту экономических свобод». |
 | Ещё до ареста я говорил друзьям, что в тюрьме не буду отказываться от ответственности за всё написанное мною. Не сделано это было сразу лишь потому, что добивался, чтобы следователь занялся сутью дела – доказательством содержания клеветы в наших работах, как полагается по закону. Формально я добился этого – «Поиски» были отправлены в академические институты общественных наук на отзывы. |
 | |
 | Здесь же следователь передавал мне письма от Лили и скудную информацию о друзьях. В якобы доверительных беседах каждый искал своих выгод: следователь «раскалывал меня на сотрудничество», я же ловил обрывки сведений. Так я узнал, что на воле друзья заступаются и просят за меня, помогают семье. Сквозь зубы было сказано об упоминании моего имени в интервью Сахарова, о большой статье Померанца. |
 | Даже показали эмигрантскую газету «Русская мысль» со статьёй обо мне. К сожалению, статья была резкой, нескрываемо враждебной к нашим властям. И хоть это тоже защита. Но лучше без такой защиты, которая только укрепляет антагонизм, убеждают власти, что ты и вправду антисоветчик, её кровный враг. |
 | Комитет |
 | Всемирно известный и якобы всемогущий и таинственный КГБ… Поднимаясь по Пушечной улице, видишь, как вырастает его главное здание, |
 | чтобы заполнить весь горизонт, если выйти на площадь Дзержинского. Но это только видимый миру образ на том самом месте, где поселил страшную ЧК Ленин, где при Сталине взамен бывшей Лубянской гостиницы воздвигли этот мрачноватый замок – |
 | пожалуй, самый полный символ обожествления реальной власти, эпохи, их которой мы далеко ещё не выбрались. Невидимый же миру КГБ разбросан по стране областными управлениями, райотделами, первыми отделами и дальше по всем общественным ячейкам. |
 | За главным зданием на тихой улице Малая Лубянка, по обе стороны расположены кабинеты, а тротуары заняты чёрными и серыми «Волгами». Здесь работает немало моих знакомых. Капитан Трофимов допрашивал ещё в 73-ем году, а теперь вот стал начальником следственного отдела. |
 | Отсюда приезжали ко мне с обыском по делу Тани Великановой. Недавно пришлось «беседовать» с капитаном Катаевым. И, наверное, отсюда приезжали в Бутырку самоуверенные молодые люди, курирующие наши, якобы уголовные дела с их политической стороны, убеждённые в собственной полезности, а значит, правоте. |
 | И я частично признал, вернее, повторил то, что говорил ещё до ареста: в принципе не отрицаю нужности защиты государственной безопасности, даже её контроля за связями оппозиции с зарубежьем. Этот шаг с моей стороны к взаимопониманию с Советской властью в лице её могущественного Комитета был сделан открыто и публично в заявлении для печати. Со своей стороны я добивался признания властью своего статуса инакомыслящего и лояльного оппозиционера. Ведь на словах комитетчики не отвергали ни моего права на буржуазно-коммунистические убеждения, ни права на конструктивную критику. Но это были лишь их собственные слова, потому что высшее начальство, видимо, ни с какой открытой оппозицией согласиться не желает. И потому реально комитетчики вымогали от меня показания, признания себя преступником. |
 | И я частично признал, вернее, повторил то, что говорил ещё до ареста: в принципе не отрицаю нужности защиты государственной безопасности, даже её контроля за связями оппозиции с зарубежьем. Этот шаг с моей стороны к взаимопониманию с Советской властью в лице её могущественного Комитета был сделан открыто и публично в заявлении для печати. |
 | В солнечный июньский день меня, ошарашенного, помнящего лишь зимнюю Москву, вдруг вытащили из карцера и зелёными предолимпийскими улицами повезли в какую-то роскошную гостиницу, |
 | с необыкновенными коврами, мебелью, пирожными, сладкой газировкой на журнальном столике. Как определили вечером мои соседи-уголовники: «Сегодня комитетчики Витька на свою блат-хату колоть возили». Нас было четверо: следователь, комитетчик, экономист-профессор и я. Но вопреки надеждам первых двух участников беседа была не на раскалывание, а мягким прощупыванием, пониманием друг друга. Никакого переубеждения не произошло, но именно после этой беседы я пришёл к выводу, что от возможной причастности к зарубежной антисоветской пропаганде я должен отказаться публично. Мои собеседники ещё раз убедились, что перед ними – не их враг. Они уже никак не могли смотреть на меня с ненавистью. Бурцев потом говорил: «С Абрамкиным и другими нам всё ясно, а вот с Вами-то вся трудность!»… |
 | Из гостиницы к вечеру мы возвращались в двух «Волгах». Чёрная отвезла меня в Бутырку, а бежевая отвезла профессора и комитетчика, наверное, к себе, в центр, может, для отчёта и выводов. |
 | Я же потом пришёл вот к какому выводу о результатах той беседы: компромисса власти с диссидентом, хотя бы одним, не получилось, потому что ни высшая власть, ни авторитетные диссиденты к этому не готовы. Что видно хотя бы по равно отрицательному отношению их к моей промежуточной позиции. |
 | Но личное соглашение комитетчиков со мной всё же состоялось. Они, в конце концов, согласились, чтобы я не признавал своей юридической вины и мог защищаться на суде, отпустили домой в обмен на то заявление в суде. И потому я считаю свой случай лишь локальным, лишь далёким предвестником настоящего, широкого компромисса между свободным обществом и властью, будущего общественного договора. |
 | А в тот вечер «Волга» со мной опять подъехала к бутырским воротам. Знакомый охранник только спросил у следователя: «Оружие есть? Смотри, не положено…» и впустил на остров. Проезжая по внешнему обводу бутырских корпусов, я во все глаза смотрел снаружи на своё жилище. |
 | Огибаем башни бутырского замка с их жуткой славой карцеров и «резинок» и останавливаемся у железной клетки. Сейчас в ней пусто, а тогда валила толпа сотрудников после работы, как из обычного НИИ. Так что следователь с трудом протиснулся к проходной. А в это время комитетчики продолжали «спасать» меня и уговаривать. Мы стояли прямо у стены, не обращая внимания на красные запрещающие слова, и я улыбался. Улыбался, улыбался этому вольному без решёток свету, замку, потому что тело знало: через минуту оно уйдёт под землю, в камень, карцер. Через минуту – и ещё на сколько месяцев вперёд? |
 | Да, где-то здесь, у стены, мы стояли, и «они» тоже мне улыбались. А старший, знакомый мне ещё по обыскам, продолжал долбить прежнее: «И всё же зря ты так, Виктор. Как старший тебе говорю: зря!. 12 лет – срок не маленький, это жизнь. А если даже вернёшься, дети без отца вырастут. И ты их не знаешь, и они тебя не узнают… Зачем тебе это надо?» И я был с ним согласен: никому это не нужно. Но когда в ответ спрашивал: «А позволят ли мне при этом не врать, не позорить друзей, не отрекаться от себя?», он стыдливо отводил глаза. Вот в том-то и дело! Даже он считал, что честное соглашение и честный выход отсюда невозможен. Сам комитетчик в это не верил. |
 | А потом вышел из дверей Бурцев и поманил ко входу: «Мол, пожалуйте к себе, Виктор Владимирович!» Но прежде, чем я оторвался от комитетской компашки, в меня упёрся взглядом начальник бутырского режима подполковник Бирюков. Он выходил со службы и вдруг узрел почти на воле, в окружении смеющихся штатских – кого? Зэка Сокирко, которого он самолично упёк за протест сначала в камеру голодающих, а потом в карцерный подвал. |
 | Он просто окаменел от растерянности. До сих пор вижу, как проворачивались мысли в его голове и медленно яснели глаза. Через минуту он что-то понял, почуяв присутствие людей, которым всё позволено… и, отвернувшись в досаде, побрёл своей дорогой, к жене и внукам. |
 | Потом, ещё много раз подчиняясь окрикам конвоиров: «Руки назад! Лицом в угол! Заходи!», я с удовольствием вспоминал понурую спину их всесильного начальника и чувствовал, что можно вырваться из их власти, опираясь на произвольную силу самих комитетчиков: КГБ против МВД. И не надо за это меня упрекать: ведь на деле именно Комитет посадил меня в тюрьму и потому только он мог из неё вытащить. |
 | 10. Бутырское время Но отвлечёмся от темы моего выхода на волю - ведь это столь редкое исключение. Гораздо интереснее описать мысли и чувства сидящих здесь людей. Я постараюсь вспомнить, что могу, но думаю, что письма Валеры, написанные в самой тюрьме, ещё более точны и ярки. |
 | В глубине восточного внутреннего двора «спеца» смутно видны бетонные подвальные коробки. Эти отдушины - окна бутырского карцера, который сами надзиратели именуют трюмом, потому что погружённый метра на три под землю, он периодически заливается от дождей и неисправной канализации. |
 | И тогда менты бродят с руганью по карцерному коридору по щиколотку в арестантской разбавленной моче. А карцерники напрасно уговаривают включить воду для питья и умывания хоть на секундочку. И всё же карцер не был для меня худшим временем. Может, даже здесь были мои лучшие дни. |
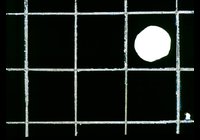 | Конечно, холодно и сыро. Но днём можно отогреться. Наполовину урезана пайка, но после недельной голодовки еды мне хватало. Темнота не удручала, потому что читать и писать всё равно не давали. Зато была тишина, удобная для размышления. А самое главное, можно было переговариваться с сидящими рядом Сашей Лавутом и Леонардом Терновским. |
 | Вокруг средневековье, темно, сыро, тесно, а в душе такое тепло от расспросов Саши, от более редкого, но такого душевного участия Леонарда. А один раз мне удалось даже увидеться с Леонардом в глазок его камеры, когда мою шмонали. Пусть на секунду, а свиделись – что может сравниться с такой радостью? |
 | И ещё одна запомнилась там радость: отражённые решёткой серебристые дождевые капли, и ливневый шум, и свежесть. Но об этом гораздо лучше написал Валера |
 | На цыпочки пристав /к зарешеченному окну, Раздирая руки о колючую стену,/ я дотянусь, подтянусь Да много ли мне надо? Несколько хрустальных шариков – Достойная награда/ за исцарапанные руки и окрик Вертухая за дверью: “У окна не положено!» |
 | С ладоней мокрых/ губами сниму осторожно Уцелевшие дождинки / без примеси, без привкуса ржавчины И это всё? Возможно. |
 | И вот его другое сильное, но более раннее впечатление: «Почти во всех камерах, как ни заглядывай в отвоёванные старанием зэков узкие просветы между рамой решётки и стеной, ничего не увидишь. Я помню, с какой неудержимой силой притянуло меня к решётке в камере 312. Расположение самого окна, да щель в ладонь шириной открывали вдали московский островок воли с фрагментом жилого дома – тюлевые занавески на окнах, детское бельишко на балконах и деревья, только что выбросившие первую зелень. Дом с балкончиками и незарешеченными окнами. И особенно дерево, в реальность которого трудно поверить после месяцев тюрьмы. |
 | И весна только сейчас донеслась до меня радостно дрогнувшими на ветру листочками – всё это нахлынуло вместе с потоком звуков вольного мира. |
 | А то, что не могло быть схвачено и услышано (а что в такой дали можно услышать и различить?), дополнилось восторженной памятью, и голова моя закружилась как от свежего весеннего порыва в пробуждающемся лесу… |
 | При всей серости и однообразии тюремного существования случаются и на этой неподвижной глади всплески, расходящиеся волнами по ближним к событиям дням. Настоящий праздник – день получения передачи (а также и перевода), записки с воли, достигшей тебя Бог знает каким удивительным способом, или весточки о том, что дома всё хорошо, всё нормально. |
 | Радостна, трогательна и одновременно печально-грустная встреча с другом на Бутырском перекрёстке: осторожный разговор через стену прогулочного дворика, |
 | или через оконную решётку и тюремный двор, заполненный голосами разыскивающих друг друга подельников, перекликающихся в минуты тишины, пока молчит радио – всё это лежит отчётливой вехой в памяти. |
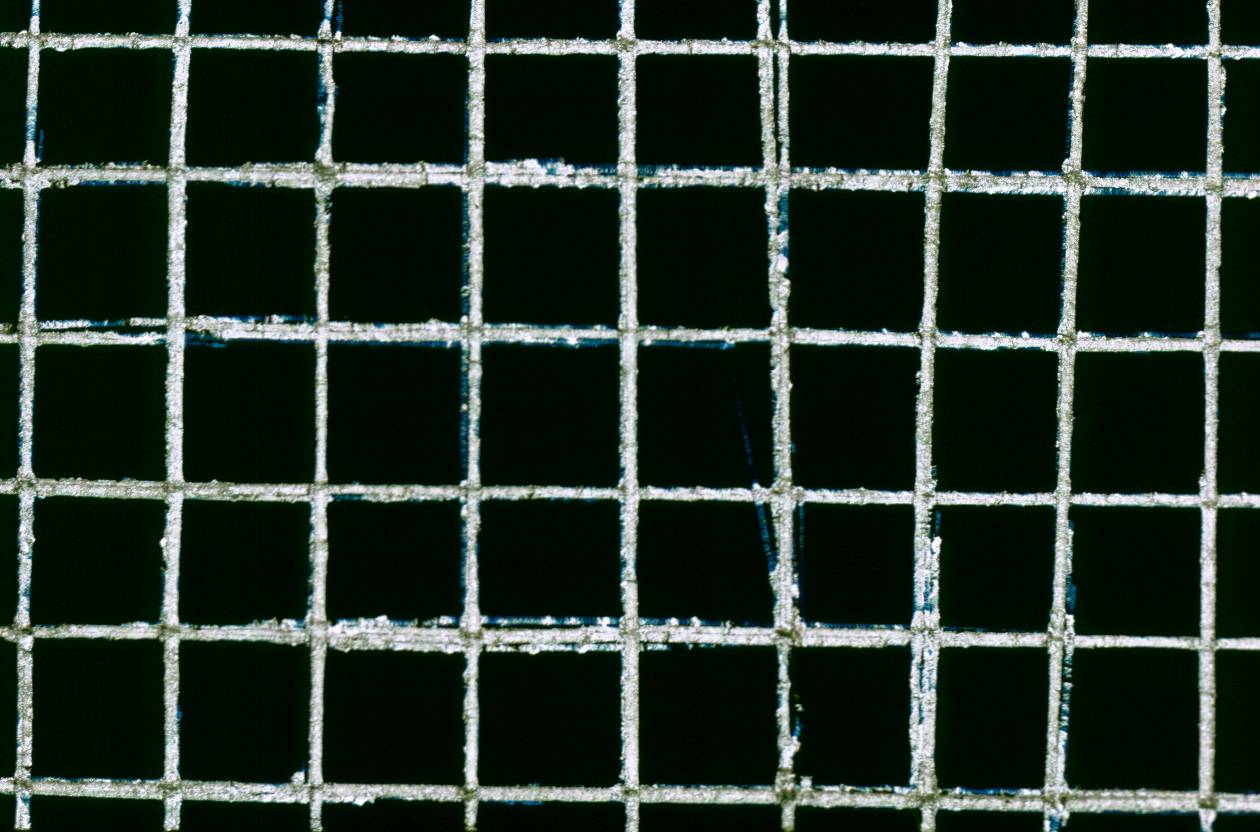 | Бывают дни, остро различимые на фоне пустоты и бессодержательности СИЗО-времени, отмеченные нечастыми событиями, вроде появления нового лица (особенно «свеженького с воли»), важного по каким-либо причинам допроса, перевода в другую камеру, выезд на суд и возвращение сокамерника, ухватывающего украдкой через густую решётку воронка, как там, на воле. |
 | И, наверное, каждому зэка судьбой уготовлены дни, которые, в памяти своей обводит он чёрным кружочком отчаянья. В бесцветно-неразличимые тюремные будни,к когда наваливается на меня, сбивая дыхание, хаос, когда на горле удавка тоски, в минуту выстуживающего душу отчаяния, я припадаю к живой воде воспоминаний… |
 | Но боже, как трудно выстраивался для нас тот прощальный день. Я снимал твою похолодевшую руку и молился, чтобы не разгорелся ещё сильнее огонёк тревоги в твоих зрачках. Прости, не за тебя, а за себя в тот час молился. Я обязан был быть сильным, но боялся не выдержать… Господи, никогда раньше не знал, какое это блаженство: никуда не спеша, не отвлекаясь на «дела», просто стоять и смотреть, как любимая «священнодействует» на кухне. |
 | А впереди бессчётные месяцы на кислой, без запаха хлеба тюремной пайке, переваренной баланде, без единого кусочка, над которым поколдовали твои руки…И потянутся снова похожие друг на друга, разбавленные разговорами с сокамерниками, книгами, стуком костяшек домино и кубиков нард дни… |
 | И будут редкие минуты жизни, восстанавливающие связь с миром, отделённым от меня разломом Времени и Пространства, и напиток Хроноса будет нужен мне, чтобы не отчаяться и не разувериться в реальном мире, в котором осталась ты». |
 | По разному люди воспринимают мир. А мне вот Бутырка с её вечно гремящей музыкой и бездельем тысяч здоровых мужиков часто казалась «весёлой Бутыркой», гиганским санаторием и университетом воровского опыта. А что сидим взаперти и нет свежего воздуха, так многие из моих сокамерников даже от прогулки отказывались, предпочитая спать. |
 | Правда, в солнечные дни отказов почти не бывало. Зато больше смеха, разговоров и переговоров между двориками. Пока надзирателя рядом нет, перебрасываются записками, куревом, сувенирами… «Сашок, как житуха?» - «Ништяк!» Незримое миру общение прерывается криками то в сторону женских двориков: «Девочки, как Вы там, очень хочется…», то вдруг дуэтом гомиков по кличке Светка и Белка, исполняющих песни Аллы Пугачёвой и жеманно хвастающих «мальчикам» своими «лифчиками»… а то вдруг всё это покроется перебранкой лагерников, истошной руганью, не бранью, а хрипом бешеных псов: «Падла, козёл вонючий, петух кашкарский, доберусь я до тебя в зоне, не скроешься гад, удав ментовский, комсомольское отродье…» |
 | У меня темнело в глазах от этого нечеловеческого хрипа, от состояния, до которого способен дойти царь природы в этих каменных ямах. И не поймёшь, то ли тюрьмы нужны, чтобы сдерживать этих животных, то ли именно лагеря и тюрьмы делают людей такими… |
 | А очнёшься: снуют рядом сокамерники, а над тобой в одной из таких будок стоит ментовка, смотрит вниз презрительно или, в лучшем случае, с сожалением и делится товарке: «Ох, не могу смотреть, как они от стены к стене бегают, ну прямо звери, туда-сюда… Эй, эй, ты, чего там делаешь, чего прячешь? Смотри, живо в трюм спустим!» |
 | Невозможно рассказать здесь о судьбах сокамерников. Среди них попадались и хорошие люди, и хозяйственники – механик цеха, завскладом, начальник цеха, директор ресторана, посаженные якобы за хищения и взятки, а на самом деле из-за поражения в борьбе за власть их покровителей чаще всего. И вина их не столько собственная, сколько от безнравственной ситуации, в которую они попали. |
 | Но основная часть моих собутырников – чистые уголовники – воры, грабители, хулиганы, чердачники. Многие сидели раньше, часто с малолетства, и души их уже сформированы Архипелагом. Они – его дети и злейшие враги. Это они клокочут бранью и ненавистью против ментов и всех, кто с ними сотрудничает. Это они, не задумываясь, пустят в ход кулак или нож. Но не хочу я участвовать в таком противостоянии. Тем более что среди них оперы вербуют наседок и стукачей. |
 | Думаю, что на 1 мая 80года, когда по Москве вывесили флаги и динамики кричали лозунги, это они заорали на весь тюремный двор: «Смерть коммунистам!» - «Ура!» И страшно мне стало от этого «идейного» крика. |
 | Сейчас только сила, ментовская и иная государственная сила порядка их сдерживает. Пока это большая сила. Она не только охраняет улицы, она не только в тюрьмах и в лагерях. Она ещё держится в традициях дисциплинированности. Но сама охранительная сила эта слабеет и развращается безнаказанностью и близостью к уголовникам. Исправить, очистить и укрепить эту силу можно только гласностью, оппозиционной критикой. Сейчас же это исключено. |
 | И кто знает, сколько времени ещё отпущено стоять этой силе и сколько времени осталось вообще нам жить при нынешних порядках, перед социальным кризисом. И кто гарантирует, не приведёт ли анархия в ядерной сверхдержаве к страшному всеобщему взрыву – военному, ядерному… |
 | Ведь всё связано тут воедино. И то, что в 17-ом году обернулось лишь смертями миллионов и разрухой гигантской страны, сейчас может обернуться испепеляющей реальностью тысяч солнц над головой детей наших и внуков. Страшно смотреть в будущее, а надо. Надо, чтобы трезво жить в настоящем. |
 | 11. День рождения семьи 21 сентября мы праздновали 18-илетие нашей семьи. В тот год я и не чаяла, что будет у нас этот праздник. Наши старшие дети, самостоятельные и почти взрослые, навестили в тот день стареющих родителей в деревне, нет, хуже – |
 | в пансионате. А что? Ведь вместе нам уже за 80. |
 | Первой приехала 12-илетняя Галя, |
 | а в воскресенье прибыл и старший сын, первокурсник Тёма. И какая получилась от этого радость! |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | Конечно, праздновать мы отправились в маленький поход. |
 | Мимо нашей клумбы, |
 | через игровые площадки |
 | углубились в дремучий лес. |
 | Даже такая нестандартная и экзотическая приют-избушка не привлекла нас – а вдруг сюда придут отдыхающие и помешают празднику, на который приглашены только наши дети. |
 | И потому мы продолжали идти всё дальше и дальше. |
 | |
 | Потом вышли на поле, где могучие заграничные машины ждали столь же могучего урожая на наших хилых подмосковных полях. |
 | И снова лес. Малыши начали уставать, но мы дошли |
 | до северного выхода Клязьминского моря к деревне с незнакомой нам церковью на другом берегу. Через пролив туда не добраться и потому мы повернули по берегу назад, |
 | прерываясь на отдых и игры. |
 | |
 | |
 | А вот и цель нашего пути - красивая и пустынная сейчас «Бухта радости». Водопроводная станция на противоположном берегу напоминает, что это море московской питьевой воды, потому здесь всё чисто и таким будет наш праздник. |
 | В укромном местечке мы и устроились. Для себя выставили бутылку красного «Салюта» из местного продмага, для детей импортную «Фанту» из пансионата и, конечно, традиционный шоколад. |
 | Детям было весело. Нам хмель бил в голову, и я даже громко пела, выплёскивая радость наружу. И пусть не только мы, |
 | пусть все будут рады, что Витя вышел, что дети здоровы и веселы, и пусть не будет никому от этого обидно. А не будет ли? И что станется с нами через неделю, две, через суд? |
 | Начитавшись Витиных тюремных документов. Видя его подготовку, я знала: он будет идти на острие ножа, чтобы избежать предательства себя и друзей и не угодить снова в тюрьму. Удастся ли? И молила судьбу: дай ему силы! |
 | |
 | |
 | 12. Суд А через два дня за Витей приехала очередная «Волга» и отвезла на Каланчёвку. |
 | за этим вот Обвинительным заключением. В нём было 10 пунктов, ни с одним из них Витя на суде не согласился. А на следующий день мы все уехали в Москву. Ещё 4 дня Витя переписывал эту бумагу и готовился к защите, |
 | чтобы в понедельник , 29 сентября явиться на Каланчёвку к невзрачному зданию Мосгорсуда. Два дня шло его заседание, в большой комнате, но всего с 15 зрителями–статистами и нами тремя – Олей, Сашей и мною. |
 | С привычной нам, советским людям, точки зрения суд над Витей был обычным средним процессом. Хотя на взгляд со стороны он мог бы показаться чудовищной комедией, где соблюдалась лишь форма и принятые Витей в тюрьме обязательства. Самое тяжёлое – он зачитал то заявление для печати, написанное вначале по своей воле, а потом изуродованное до неузнаваемости. Однако непризнание клеветы позволило ему вести защиту и прямо на суде объяснить свои мотивы, показать абсурдность юридических обвинений. |
 | Комитетчики были недовольны Витиной защитой, но формальные обязательства были соблюдены и потому с тремя годами условно его отпустили домой. |
 | Через день здесь же судили Валеру. Звучали те же почти дословно обвинения, только их было меньше. Как и у Вити, суд не расследовал присутствие в «Поисках» клеветы, он только записал, что, рассмотрев такие-то материалы, убедился в их клеветническом характере. Но сам Валера вёл себя по-другому. Он продолжал начатую в тюрьме войну – десятками заявлений, ходатайств, требований. И его, и Юру Гримма приговорили к максимальному наказанию по этой статье – трём годам лагерей… |
 | (Катя поёт песню Валеры) |
 | |
 | |
 | Они ушли в лагерь, в этот жуткий для нас антимир, ушли непризнавшими за собой никакой вины, никаких ошибок, непреклонно отстаивая человеческие права на свободу слова, совести, мысли. Ушли, жертвуя годами своей жизни, оставив дома Катю и Алика, Соню и Клайда. |
 | Я знаю, знаю, как им плохо и тоскливо без мужей и отцов и сочувствую им всем – и в лагере, и здесь, в Москве. И даже стыдно мне за своё семейное благополучие. |
 | Витя тоже не признал себя клеветником и преступником, он тоже не отрекался, но не принёс себя и нас в жертву ради прав человека. Постоянно искал возможности совместить обычную жизнь и гражданскую ответственность или, как он говорил, старался «жить буржуазно». Искал этого даже в Бутырке. И нашёл. И мы рады этому, и в то же время гордимся знакомством с людьми, способными жертвовать собой. |
 | 12. Новое плавание А наша семья? Что ж, она вновь пустилась в жизненное плавание. А первое, пробное мы совершили на лодке ещё в пансионате, прельстившись видом далёкой церкви на том берегу. И так захотелось её увидеть поближе. Узнать, потрогать, что мы решили: поплывём. |
 | Ведь есть же здесь лодки! Собрались и пошли, |
 | чтобы через 15 минут выйти к тихому заливу, |
 | в котором расположен прокат лодок. |
 | Погрузились в трёхместную лодку и поплыли навстречу своей цели. Это только в начале мы были закрыты от холода сентябрьской воды. |
 | Потом разогрелись и начали раздеваться. Сначала папа, а затем, когда ему стали помогать детки, разделись и они. |
 | В конце концов, Аня и Алёша отняли у папы весла и гребли к нашей цели, как могли. |
 | И даже меня привлекали. |
 | С пыхтением достигли мы желанного берега. Оставили папу караулить лодку, а сами втроём отправились к церкви. |
 | Она оказалась не такой уж красивой и старинной, как смотрелась издали, а главное, знакомой – мы её уже видели по дороге из Москвы. Что ж, так часто бывает, не только в туристской, но и в большой жизни. |
 | Но ничего. Давно ведь сказано: главное не цель, а движение к ней, путь, труд и радость. И вот мы возвращаемся домой к своему счастливому берегу. |
 | 196– 197 |
 | |
 | |
 | 14. Оконцовка 20 лет назад Хрущёв объявил, что в этом году будет построен коммунизм. За критику той программы меня едва не сшибли с ног, а на деле начали биографию. И вот настал этот «вожделенный год коммунизма» и оказался для меня на 2/3 годом казённых пансионатов, Бутырского |
 | и вот этого, Клязьминского. И всё же есть ли повод грустить? |
 | Недавно довелось мне слышать жалобу одного из отъезжающих навсегда: «Что не говори, а лучше и интереснее всего жить в России – «у бездны на краю». Я хорошо понимаю эту зависть. Год назад, на Каспии сам так чувствовал, а потом был накрыт обвальной волной этой бездны и как бы унесён за чёрно-красный горизонт. Казалось, унесён навсегда. Но вот, не утонул, вернулся прежним. |
 | В памяти только остался Бутырский остров Архипелага… В общественной необходимости тюрем в целом я не усомнился, ушёл оттуда без ненависти к надзирателям, хотя, конечно, с огромным желанием больше не возвращаться. Конечно, хотел, очень хотел бы, чтоб Бутырский замок стал только историческим памятником, чтобы тюрем совсем не стало. Но только знаю, в предвидимом будущем люди много лучше не станут, а мечтать о невозможном не надо. Особенно у нас, в романтической и потому неделовой России. Правильней не уничтожать, а делать всё, чтобы Бутырский остров преображался, не хватал честных людей, а помогал заблудшим вернуться к человеческому поведению. |
 | И своим детям мы желаем жить на родине, научиться быть мудрыми и работящими, сильными и счастливыми. Нелёгкое наследство мы им оставим, немало запутанных проблем и грозных опасностей их ожидает… Но в то же время мы оставим им и опыт своей счастливой жизни. И даст Бог, он им поможет. |
 | Да именно так. На мне уже вполне цивильная одежда, но ещё тюремная стрижка и бутырские привычки. Однако будущее снова открыто. Так же, как и перед вами. И потому давайте пожелаем себе обоюдно – хорошей работы и гражданской, смелой ответственности, мудрости и счастья! Много счастья! Всем! |
 | (Песня Кати) |
